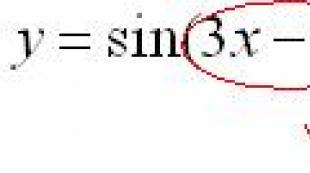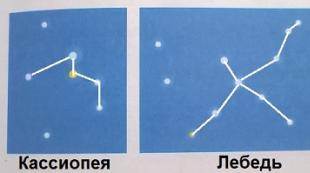Психологизм. Зачем он применяется в художественной литературе Формы и приёмы психологизма
ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Когда мы говорим, что в том или ином произведении складывается психологический стиль, мы имеем в виду, что психологизм становится в этом произведении важнейшим художественным свойством, определяющим его эстетическое своеобразие. Задаче глубокого освоения и воспроизведения внутреннего мира начинают подчиняться приемы и способы изображения человека, все художественные средства, находящиеся в распоряжении писателя. Психологический стиль требует применения особых художественных приемов, особой их организации. Мы можем говорить, что психологизм – это принцип организации элементов художественной формы, при котором изобразительные средства направлены в основном на раскрытие душевной жизни человека в ее многообразных проявлениях.
Посмотрим, какими же приемами и способами пользуются для этой цели писатели-психологи. При этом для наглядности сопоставим психологический стиль с противоположной ему, непсихологической манерой письма, при которой элементы формы воссоздают прежде всего внешнюю сторону жизни человека, происходящие с ним события и т.п.
В общем виде изменение организации художественной формы при психологизме по сравнению с непсихологическим принципом письма состоит в изменении отношений между теми ее элементами, которые так или иначе изображают внешнее бытие (наружность героев, их действия и поступки, обстановку действия и пр.), и теми, которые призваны воспроизводить внутренний мир героев. Естественно, что соотношение между этими двумя группами элементов меняется в пользу последних. Такой процесс происходит на всех уровнях художественной формы. В частности, с полной очевидностью он проявляется в сфере предметной изобразительности. То, что психологизм требует даже количественного увеличения деталей, характеризующих внутренний мир героя (подробности мыслительного процесса, нюансы чувств, эмоций, «разложение на составляющие» волевых импульсов и т.п.), и, соответственно, относительного уменьшения внешних деталей – это вполне ясно и не нуждается ни в комментариях, ни в примерах. Но меняется не только количественное соотношение внутренних и внешних деталей – меняются и более глубокие связи между ними, меняется их иерархия.
При непсихологическом принципе письма внешние детали совершенно самостоятельны, в пределах художественной формы они полностью довлеют сами себе и непосредственно воплощают особенности данного художественного содержания. Например, в «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова изображение картин народного быта никак не соотнесено с душевными переживаниями героев – они имеют смысл сами по себе, непосредственно воплощая тематический аспект поэмы, проблемный угол зрения ее автора и – главным образом с помощью особенностей предметной изобразительности и выразительности – идейно-эмоциональное отношение Некрасова к изображаемому. Также не связаны с эмоциями и мыслями героев описания внешности и жилища героев в «Мертвых душах» Гоголя, или изображение действий градоначальников в «Истории одного города» Щедрина, или картина сражения в пушкинской «Полтаве». Бывает даже, что при непсихологической организации формы отдельные элементы психологического изображения, которые там встречаются, начинают работать на внешние детали, на создание внешних картин. Так, в той же поэме Некрасова ряд картин быта дан в воспоминаниях Савелия и Матрены. Процесс воспоминания – это психологическое состояние, и у писателя-психолога оно раскрывается всегда именно как таковое – подробно и с присущими ему закономерностями. У Некрасова же совсем по-другому: в его поэме эти фрагменты психологичны только по форме, по сути же перед нами ряд внешних картин, почти никак не соотнесенных с процессами внутреннего мира. Психологическое состояние воспоминания выступает здесь только как мотивировка введения этих картин в повествование.
Психологизм же, наоборот, заставляет внешние детали работать на изображение внутреннего мира. Внешние детали и в психологизме сохраняют, конечно, свою функцию непосредственно воспроизводить жизненную характерность, непосредственно выражать художественное содержание. Но они приобретают и другую важнейшую функцию – сопровождать и обрамлять психологические процессы. Предметы и события входят в поток размышлений героев, стимулируют мысль, воспринимаются и эмоционально переживаются. Как ни важна, например, с точки зрения сюжета дуэль Пьера с Долоховым, как ни характеристичен сам по себе этот эпизод, все-таки, пожалуй, наиболее существенная его функция – служить эмоциональным и мыслительным материалом для Пьера. Дуэль не только прямо вызывает у Пьера поток мыслей и переживаний, она еще вспомнится ему позже, в ряду других, столь же бессмысленных, как ему кажется, событий; всплывет она и в одном из ключевых внутренних монологов, где ставятся центральные этические вопросы романа: «...А я стрелял в Долохова за то, что я счел себя оскорбленным. А Людовика XVI казнили за то, что считали его преступником, а через год убили тех, кто его казнил, тоже за что-то. Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?»
Событие или поступок читатель воспринимает уже не просто в их прямом, объективном смысле, а как стимул или итог определенной внутренней, эмоционально-мыслительной работы или как проявление определенного душевного состояния. Внешние детали мотивируют внутреннее состояние героя, формируют его настроение, влияют на особенности мышления – иногда прямо, иногда очень опосредованно и косвенно. Так, внешние обстоятельства жизни Раскольникова, детали его быта, жилья, одежды и пр., конечно, имеют значение и сами по себе, как воспроизведение характерных черт жизни петербургского разночинца того времени, но еще большее значение они имеют в психологическом плане: ими во многом обусловлен образ мышления Раскольникова, подготовлено и усилено его болезненное душевное состояние.
Внешняя деталь может сама по себе, без соотнесения и взаимодействия с внутренним миром героя, вообще ничего не значить, не иметь самостоятельного смысла – явление, соверЩенно невозможное для непсихологического стиля. Так, знаменитый дуб в «Войне и мире» как таковой ничего собой не представляет и никакой характерности не воплощает. Только становясь впечатлением князя Андрея, одним из ключевых моментов в его размышлениях и переживаниях, эта внешняя деталь приобретает художественный смысл.
Внешние детали могут не прямо входить в процесс внутренней жизни героев, а лишь косвенно соотноситься с ним. Очень часто такое соотнесение наблюдается при использовании пейзажа в системе психологического письма, когда настроение персонажа соответствует тому или иному состоянию природы или, наоборот, контрастирует с ним. Так, например, в XI главе «Отцов и детей» природа как бы аккомпанирует мечтательно-грустному настроению Николая Петровича Кирсанова – и он «не в силах был расстаться с темнотой, с садом, с ощущением свежего воздуха на лице и с этой грустию, с этой тревогой...» А для душевного состояния Павла Петровича та же самая поэтическая природа предстает уже контрастом: «Павел Петрович дошел до конца сада, и тоже задумался, и тоже поднял глаза к небу. Но в его прекрасных темных глазах не отразилось ничего, кроме света звезд Он не был рожден романтиком, и не умела мечтать его щегольски-сухая и страстная, на французский лад мизантропическая душа...»
В общем, мы можем без преувеличения сказать, что в системе психологизма практически любая внешняя деталь так или иначе соотносится с внутренними процессами, так или иначе служит целям психологического изображения. Появление абсолютно непсихологической детали для психологического стиля – явление почти невозможное.
Сказанное относится и к тем художественным деталям, с помощью которых показываются внешние проявления внутренней жизни героя (мимика, пластика, жестикуляция, речь на слушателя, физиологические изменения и т.п.). Воспроизведение внешних проявлений переживания – одна из древнейших форм освоения внутреннего мира, но в системе непсихологического письма она способна дать лишь самый схематичный и поверхностный рисунок душевного состояния, в психологическом же стиле подробности внешнего поведения, мимика, жестикуляция становятся равноправной и весьма продуктивной формой глубокого психологического анализа.
Почему это происходит? Во-первых, внешняя деталь теряет свое монопольное положение в системе средств психологического изображения. Это уже не единственная и даже не главная его форма, как в непсихологических стилях, а одна из многих, причем не самая главная: ведущее место занимает внутренний монолог и авторское повествование о скрытых душевных процессах. Писатель всегда имеет возможность прокомментировать психологическую деталь, разъяснить ее смысл. Вот как развернуто раскрывает, например, Толстой психологический подтекст такого обыкновенного мимического движения, как улыбка: «Она никак не могла бы выразить тот ход мыслей, который заставил ее улыбаться; но последний вывод был тот, что муж ее, восхищающийся братом и уничтожающий себя перед ним, был неискренен. Кити знала, что эта неискренность его происходила от любви к брату, от чувства совестливости за то, что он слишком счастлив, и в особенности от не оставляющего его желания быть лучше, – она любила это в нем и потому улыбалась» («Анна Каренина»).
Во-вторых, освоенная литературой индивидуализация психологических состояний приводит к тому, что их внешнее выражение также теряет стереотипность, становится уникальным и неповторимым, своим для каждого человека и для каждого оттенка состояния. Одно дело, когда литература изображает одинаковые для всех и потому схематичные проявления чувств, эмоций и не идет дальше, и совсем другое – когда изображается, скажем, тщательно индивидуализированный внешний мимический штрих (подрагивающая верхняя губа у Раскольникова, например), причем не изолированно, а в сочетании с другими формами анализа, проникающими в глубину, в скрытое и не получающее внешнего выражения.
Внешние детали используются лишь как один из видов психологического изображения – прежде всего потому, что далеко не все в душе человека вообще может найти выражение в его поведении, произвольных или непроизвольных движениях, мимике и т.д. Такие моменты внутренней жизни, как интуиция, догадка, подавляемые волевые импульсы, ассоциации, воспоминания, не могут быть изображены через внешнее выражение.
Постепенно освоенная литературой сложность психологического мира человека усложняет и изображение связи внешнего с внутренним. По одним только внешним признакам практически нельзя определить, что происходит в душе героя, так как эти признаки неоднозначны, могут быть по-разному истолкованы. Вообще растет несоответствие между внешним и внутренним состоянием, что часто используется писателями как особый, своеобразный художественный прием, усиливающий остроту положения или напряженность внутреннего состояния героя, оттеняющий какие-то особенности его внутреннего мира.
Раз уж мы заговорили о различного рода внешних психологических деталях, то есть смысл особо сказать и о такой форме психологического изображения, как портрет. В широком литературоведческом обиходе существует тенденция называть любое портретное описание психологическим – на том основании, что оно раскрывает определенные черты характера, психологии человека. Это частное проявление той терминологической неточности, о которой мы подробно говорили в первой главе, – представления о психологизме как универсальном свойстве художественной литературы. По-видимому, всякий портрет характеристичен (иначе он просто был бы не нужен в литературе), но не всякий психологичен. Поэтому нам представляется необходимым отделить собственно психологический портрет от других разновидностей портретного описания. Например, в портретах чиновников и помещиков в «Мертвых душах» Гоголя ничего от психологизма нет. Эти портретные описания косвенно указывают на устойчивые, постоянные свойства характера, но не дают представления о внутреннем мире, о чувствах и переживаниях героя в данный момент; в портрете проявлены устойчивые черты личности, не зависящие от смены психологических состояний.
А вот противоположный пример – Толстой говорит о Пьере: «Осунувшееся лицо его было желто. Он, видимо, не спал эту ночь». Здесь мы можем по чертам лица героя судить о его психологическом состоянии, это – психологический портрет в строгом смысле слова. У Гоголя штрихи портрета прямо увязываются с авторскими характеристиками героя, с указанием на устойчивые черты его личности («медведь» и «кулак» Собакевич, «дубинноголовая» Коробочка и т.д.). А у Толстого детали портрета связаны с другими способами психологического изображения. Так, в нашем примере портретный штрих окружен воспроизведением мыслей Пьера и имеющими психологический смысл деталями его мимики и поведения.
Таким образом, психологический и непсихологический портреты входят в разные стилевые микросистемы.
В психологических стилях мы находим богатую систему повествовательно-композиционных форм, с помощью которых осуществляется изображение различных сторон внутреннего мира, разных душевных состояний. Прежде всего отметим значительную роль, которую играет психологическое повествование от третьего лица. Повествование, которое ведется «нейтральным», «посторонним» рассказчиком, обладает рядом преимуществ в изображении внутреннего мира, хотя в научной литературе часто можно встретить противоположное утверждение, согласно которому более органичной формой психологизма является повествование от первого лица. Посмотрим, что же дает нейтральное повествование со стороны в плане изображения внутреннего мира.
Во-первых, оно ориентировано прежде всего на такую форму психологического анализа, как авторское повествование о мыслях и чувствах героя. Это именно та художественная форма, которая позволяет автору без всяких ограничений вводить читателя во внутренний мир персонажа и показывать его наиболее подробно и глубоко. Для автора нет тайн в душе героя – он знает о нем все, может проследить детально внутренние процессы, объяснить причинно-следственную связь между впечатлениями, мыслями, переживаниями. Нейтральный повествователь может прокомментировать самоанализ героя, рассказать о тех душевных движениях, которые сам герой не может заметить или в которых не хочет себе признаться, как, например, в следующем эпизоде из «Войны и мира»: «Наташа со своею чуткостью тоже мгновенно заметила состояние своего брата. Она заметила его, но ей самой так было весело в ту минуту, так далека она была от горя, грусти, упреков, что она... нарочно обманула себя. "Нет, мне слишком весело теперь, чтобы портить свое веселье сочувствием чужому горю", – почувствовала она и сказала себе: "Нет, я, верно, ошибаюсь, он должен быть так же весел, как и я"».
Одновременно повествователь может психологически интерпретировать внешнее поведение героя, его мимику и пластику и т.п., о чем мы уже говорили в связи с психологическими деталями.
Во-вторых, повествование от третьего лица дает небывалые возможности для включения в произведение самых разных форм психологического изображения: в такую повествовательную стихию легко и свободно вливаются внутренние монологи, публичные исповеди, отрывки из дневников, письма, сны, видения и т.п. Такая же композиционно-повествовательная форма, как рассказ от первого лица, или роман в письмах, или роман, построенный как имитация интимного документа, дает гораздо меньше возможностей разнообразить психологическое изображение, делать его более глубоким и всеохватывающим. Собственно, для повествовательных структур данного типа единственной естественной формой психологического изображения является рефлексия, психологический самоанализ, для введения же любого другого приема неизбежно приходится прибегать ко всякого рода условностям.
В-третьих, повествование от третьего лица наиболее свободно обращается с художественным временем, оно может подолгу останавливаться на анализе скоротечных психологических состояний и очень кратко информировать о длительных событиях, имеющих в произведении, например, характер сюжетных связок. Это дает возможность повышать удельный вес психологического изображения в общей системе повествования, переключать интерес с подробностей события на подробности чувства. Кроме того, психологическое изображение в этих условиях может достигать небывалой детализации и исчерпывающей полноты: психологическое состояние, которое длится минуты, а то и секунды, может растягиваться в повествовании о нем на несколько страниц. Едва ли не самый яркий пример тому – отмеченный еще Чернышевским эпизод смерти Праскухина в «Севастопольских рассказах» Толстого.
Наконец, психологическое повествование от третьего лица дает возможность изобразить психологически многих героев, что при любом другом способе повествования сделать чрезвычайно трудно, почти невозможно.
Но форма повествования от третьего лица не сразу стала использоваться в литературе для воспроизведения внутреннего мира человека. Первоначально существовал как бы некий запрет на вторжение в интимный мир чужой личности, даже во внутренний мир выдуманного самим автором персонажа. Вероятно, введение прямого авторского (от третьего лица) психологического повествования противоречило бы принципу правдоподобия (так сказать, «чужая душа – потемки»). А возможно, литература просто не сразу освоила и закрепила эту художественную условность – способность автора читать в душах своих героев так же легко, как в своей собственной. Может быть, дело также и в том, что в первых психологических романах герои часто были автопортретны, т.е. в каких-то основных чертах своей личности, своего характера тождественны автору. Тогда психологическое повествование от третьего лица было попросту ненужным, ибо не было еще задачи изобразить в полном смысле чужое сознание.
Как бы там ни было, но вплоть до конца XVIII века для психологического изображения использовались по большей части неавторские субъектные формы повествования, главным образом письма («Опасные связи» Лакло, «Памела» Ричардсона, «Новая Элоиза» Руссо) и рассказ от первого лица («Сентиментальное путешествие» Стерна, «Исповедь» Руссо). Эти формы позволяли наиболее естественным образом сообщать о внутреннем состоянии героев, сочетать правдоподобие (человек сам говорит о своих мыслях и переживаниях – ситуация, вполне возможная в реальной жизни) с достаточной полнотой и глубиной раскрытия внутреннего мира.
Но форма «Ich-Erzдhlung», особенно на первых порах, имела и определенные художественные неудобства. При ней психологизм как бы искусственно овнешнял то, что по самой своей природе должно оставаться внутренним и изображаться как внутреннее. Это вопрос не только использования того или иного формального приема: применение неавторских субъектных форм повествования меняет картину внутреннего мира по существу. Повествование о пережитых чувствах и мыслях в письме или рассказе от первого лица – это совсем не то, что непосредственная фиксация процессов душевной жизни персонажа в данный момент. В такой опосредованной, овнешненной передаче чувства и мысли делаются более «правильными», логичными, утрачивают непреднамеренность, вольно и невольно очищаются от «неглавных» ассоциаций, эмоций, воспоминаний. Внутренний мир упрощается, живой психологический процесс перестает быть таковым и во многом утрачивает свое индивидуальное своеобразие и неповторимость. В этих формах повествования о внутренних процессах еще много абстрактности, риторики, психологические состояния мало индивидуализированы.
Впрочем, все сказанное о форме «Ich-Erzдhlung» относится в полной мере лишь к романам XVIII века, где она соответствовала уровню развития идейно-нравственной проблематики и недостаточная естественность психологического изображения шла не только от формы повествования, но главным образом от особенностей проблематики. В дальнейшем, когда повествование от третьего лица уже снимает многие условности в психологическом изображении и делает естественным и привычным авторское вторжение в душу героя, разница между двумя этими формами становится гораздо менее резкой. «Ich-Erzдhlung» отчасти меняет свою внутреннюю структуру – в частности, появляется возможность говорить о себе как о другом, как бы со стороны (Печорин: «Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его»; в «автобиографической» трилогии Толстого о своем детстве говорит уже взрослый человек и т.п.).
С точки зрения психологизма повествование от первого лица сохраняет все же при всех условиях два ограничения: невозможность одинаково полно и глубоко показать внутренний мир многих героев (чтобы обойти это препятствие, приходится иногда вводить нескольких рассказчиков, как это делал, например, Фолкнер в «Городе», «Шуме и ярости») и однообразие психологического изображения (главным образом формы самонаблюдения и самоанализа). Даже внутренний монолог, в сущности, не вписывается в повествование от первого лица, ибо настоящий внутренний монолог – это когда автор «подслушивает» мысли героя во всей их естественности, непреднамеренности и необработанности, а рассказ от первого лица уже предполагает известный самоконтроль, самоотчет. При таком повествовании трудно раскрыть сферу подсознательного (как, допустим, в приведенном выше примере Толстой раскрывает не осознанную самой Наташей эмоциональную основу ее мыслей). Кроме того, постоянное использование только одной формы психологического изображения – самонаблюдения – рискует придать всему повествованию некоторую монотонность.
К достоинствам «Ich-Erzдhlung» надо отнести возможность исключительно полно сосредоточиться на внутреннем мире героя – во-первых; во-вторых, большую силу эмоционального воздействия и художественную убедительность: кто же лучше знает человека, чем он сам! Форма психологического самораскрытия, исповеди способна придать повествованию исключительный драматизм и напряженность.
В системе композиционно-повествовательных форм, использующихся для воспроизведения внутреннего мира, важнейшую роль играет внутренний монолог и психологическое изображение, идущее от повествователя (в дальнейшем для удобства мы будем называть его авторским психологическим изображением). Без этих форм мы просто не можем представить себе психологизм нового времени, да и чисто количественно, по объему текста, они явно преобладают над всеми другими формами психологического изображения.
В отличие от авторского психологического изображения, которое с равным успехом воссоздает как рациональную, так и эмоциональную сферу сознания и психики, внутренний монолог используется почти исключительно для изображения мыслей героев; для воспроизведения эмоциональной сферы он менее пригоден. Ощущения, эмоции, настроения могут передаваться во внутреннем монологе двумя путями. Первый путь: если ту или иную эмоцию сам персонаж как-то осознал и включил в поток своей внутренней речи (т.е. во внутренний монолог введены и мысли персонажа по поводу его эмоционального состояния): «"Я сама поеду к нему. Прежде чем навсегда уехать, я скажу ему все. Никогда никого не ненавидела так, как этого человека!" – думала она» («Анна Каренина»).
И второй путь: эмоциональное состояние героя передается во внутреннем монологе с помощью особенностей построения внутренней речи. Так, нервное возбуждение Анны, едущей на вокзал перед самоубийством, отчасти выражается в неровности ее внутренней речи, в быстрых и несвязных переходах от одних мыслей и представлений к другим.
Есть смысл особо выделить такую разновидность внутреннего монолога, как рефлектированная внутренняя речь, иначе говоря – психологический самоанализ. Как пример приведем мысли Николая Ростова, совершившего свой «блестящий подвиг», сбив с коня французского офицера: «"Да что бишь меня мучает? – спросил он себя... – Ильин? Нет, он цел. Осрамился я чем-нибудь? Нет, все не то! – Что-то другое мучило его, как раскаяние. – Да, да, этот французский офицер... И я хорошо помню, как рука моя остановилась, когда я поднял ее"».
На эту форму важно обратить внимание потому, что здесь мы имеем дело как бы с двойным, двухступенчатым психологическим изображением. Первая ступень – изображение мыслей героя с помощью внутреннего монолога; но «внутри» этой формы психологизма – свой психологический анализ: мысли героя уже сами по себе представляют форму изображения внутреннего мира. Перед нами, так сказать, «психологическое изображение психологического изображения».
В современной научной литературе внутренний монолог, в том числе и такая его разновидность, как поток сознания, изучен достаточно хорошо и подробно, поэтому в анализе этой формы мы ограничиваемся сказанным выше. Меньше внимания уделили литературоведы прямому авторскому психологическому изображению, но эта форма сама по себе настолько проста и очевидна, что вряд ли нуждается в подробном анализе. В то же время ее конкретное использование в творчестве разных писателей дает нам такое разнообразие индивидуально неповторимых особенностей, не поддающихся типологизации и обобщению, что в теоретическом анализе этой формы поневоле приходится ограничиваться очень небольшим количеством самых общих соображений. Точно так же и анализ конкретных примеров авторского психологического изображения представляется нам излишним.
В авторском психологическом изображении различается психологическое описание и психологическое повествование в узком смысле слова. Психологическое описание воспроизводит относительно статичное чувство, переживание, настроение, но не мысль, ибо мыслительная деятельность – это всегда процесс. При психологическом повествовании предмет изображения – динамика мыслей, эмоций, представлений, желаний и т.д. С художественной точки зрения оба способа равноценны и оба нужны для создания полноценной психологической картины. Кроме того, следует учесть, что психологическое описание может оказаться не менее динамичным, чем повествование. Как отмечал еще Лессинг, при изображении относительно неподвижных объектов литература как временное искусство заменяет динамику объекта динамикой повествования о нем. То же может происходить в психологическом изображении: психологическое описание может постепенно переходить от одного элемента психологической жизни к другому, последовательно, т.е. во времени, раскрывая различные нюансы и стороны статичного самого по себе чувства или переживания.
К сказанному добавим, что основная функция психологического описания в новой литературе – это анализ достаточно сложных, многогранных, многосоставных психологических состояний. Поэтому психологическое описание имеет тенденцию к увеличению своего объема. Краткое же, суммарное психологическое описание применяется писателями-психологами чем дальше, тем реже и неохотнее. (Но зато оно находит широкое применение в сфере непсихологического письма.) Очевидно, краткое описание внутреннего мира не дает ни необходимой динамики, ни достаточной нюансировки и индивидуализации психологических состояний. Оно явно тяготеет к суммарному обозначению переживания, а эта форма психологического изображения оказывается для литературы XIX и XX веков слишком маловыразительной художественно и слишком примитивной для воспроизведения сложных душевных движений.
Внутренний монолог и психологическое авторское повествование – наиболее распространенные композиционно-повествовательные формы психологизма: они встречаются едва ли не у каждого писателя-психолога. Но существуют и формы специфические, которые используются сравнительно нечасто. К ним относятся, в частности, сны и видения как приемы психологизма, а также такая оригинальная сюжетно-композиционная форма, как введение в повествование персонажей-двойников. С помощью этих способов литература идет глубже в познании и изображении внутреннего мира человека: раскрываются новые психологические состояния (например, состояние между сном и явью, состояние экстатического возбуждения), фиксируется причудливая игра образов сознания, запечатлеваются процессы ассоциаций, озарения, интуиции. Если раньше литература преимущественно изображала те чувства и эмоциональные состояния, которые легко и естественно могли быть обозначены или описаны словами и соответственно легко анализировались и объяснялись, то начиная с эпохи романтизма с помощью развитой системы композиционно-повествовательных форм, среди которых важное место занимают и только что упомянутые, уже начинают изображаться сложные состояния и ощущения, психологизм осваивает сферу подсознательного, иррационального (хорошо видно это на примере повестей Гофмана – «Золотой горшок», «Крошка Цахес» и Гоголя – «Вий», «Портрет», «Страшная месть»). Эти психологические явления не могут быть просто обозначены – они требуют для своего воспроизведения довольно сложной техники психологического изображения. Кстати, здесь романтикам очень пригодилась форма повествования от третьего лица: герой, находясь в состоянии сна, бреда или полубессознательном состоянии (как, например, Чартков в гоголевском «Портрете» в том эпизоде, где ему грезятся старик и свертки с деньгами), просто не способен на психологическое самонаблюдение и тем более на исчерпывающий самоанализ.
На анализе указанных форм очень отчетливо видно, как перестраивается организация стилевых элементов при психологизме по сравнению с непсихологическим принципом. Ведь такие сюжетные формы, как сны, видения, галлюцинации, могут использоваться в литературе с самыми различными целями. Первоначальная их функция – это введение в повествование фантастических мотивов. Так, в поэмах Гомера, в библейских сказаниях, в народном эпосе сверхъестественные существа осуществляют свое вмешательство в дела людей, являясь им во сне или в видениях. Эта функция сохраняется и в дальнейшем. «Повеления богов», полученные героем во сне, заставляют его предпринимать те или иные действия и таким образом служат толчком для развития сюжета. Сны и видения могут в той или иной мере предварять последующие сюжетные повороты. Так, сны героев древнегреческого эпоса часто предвещают им победу или поражение; «вещие сны» часто используются в фольклоре; даже сон Татьяны в «Евгении Онегине» (который, конечно, не исключительно сюжетен, но и психологичен) своеобразно предваряет дуэль Онегина и Ленского. В целом формы снов и видений при таком использовании нужны только как сюжетные эпизоды, влияющие так или иначе на ход событий и действий, и в качестве таковых они и связываются именно с другими эпизодами сюжета, но не с другими формами изображения мыслей и переживаний. Сны, грезы, галлюцинации не рассматриваются как особые состояния сознания и психики человека; сон литературного персонажа нисколько не похож на реальное сновидение с присущими ему психологическими закономерностями, да в этом и нет необходимости, коль скоро сон значим только сюжетно, но не психологически.
В системе же психологического письма эти традиционные формы имеют другую функцию, вследствие чего они и внутренне организованы по-другому. Бессознательные и полубессознательные формы внутренней жизни человека начинают рассматриваться и изображаться именно как психологические состояния. Эти композиционные фрагменты повествования начинают соотноситься уже не с эпизодами внешнего, сюжетного действия, а с другими психологическими состояниями героя, изображенными с помощью других способов психологизма. Сон, например, мотивируется не предшествующими событиями сюжета, а предшествующим эмоциональным состоянием героя. Почему Телемак в «Одиссее» видит во сне Афину, повелевающую ему вернуться на Итаку? Потому что предшествующие события сделали возможным и необходимым его появление там. А почему Дмитрий Карамазов видит во сне плачущее дитя? Потому что он постоянно ищет свою нравственную «правду», мучительно пытается сформулировать «идею мира», и она является ему во сне, как Менделееву – его таблица элементов. Бессознательные и полубессознательные состояния становятся звеном в цепи внутреннего развития героя. «В форме литературных снов, – пишет исследователь творчества Льва Толстого И.В. Страхов, – писатель восполняет анализ психических состояний и характеров действующих лиц».
Одновременно эти особые состояния сознания и психики начинают воспроизводиться более правдоподобно и с внешней, формальной стороны. Не просто сообщается, что герой увидел во сне то-то и то-то, а художественно воспроизводится сам процесс сновидения, во всех подробностях, с присущими ему закономерностями психической жизни; воссоздается его ведущий эмоциональный тон, а не только предметное содержание: «Утром страшный кошмар... представился ей опять и разбудил ее. Старичок с взлохмаченной бородой что-то делал, нагнувшись над железом, приговаривая бессмысленные французские слова, и она, как всегда при этом кошмаре (что и составляло его ужас), чувствовала, что мужичок этот не обращает на нее внимания, но делает это какое-то страшное дело в железе над ней. И она проснулась в холодном поту» (Л.Н. Толстой. «Анна Каренина»).
Начинают психологически изображаться моменты засыпания и пробуждения, часто тоже весьма подробно. Тем самым устанавливается связь сна с осознанными душевными движениями, сновидение вплетается в общую психологическую картину. Появляется реальная мотивировка возникновения особых душевных состояний: нервное напряжение, душевная болезнь, острое впечатление, опьянение и пр. Для непсихологического письма такая мотивировка нехарактерна, потому что не нужна с точки зрения функциональной; напротив, для психологизма (причем не только реалистического) она почти обязательна, иначе картина внутреннего мира может потерять связность, а потому и убедительность.
Так психологизм перестраивает традиционные формы повествования в соответствии со своими собственными задачами.
Аналогично психологизм меняет функцию персонажей-двойников. В системе непсихологического стиля они были нужны для сюжета, для развития внешнего действия. Так, появление своеобразного двойника майора Ковалева в гоголевском «Носе» – произведении нравоописательном по проблематике и непсихологичном по стилю – составляет основную пружину сюжетного действия.
Иначе используются двойники в повествовании психологическом. Это различие интересно проследить на творчестве Достоевского. В его ранней повести «Двойник» функция «второго Голядкина» двояка. Не подлежит сомнению его огромная роль в сюжете (а в сюжете повести раскрывается прежде всего нравоописательная проблематика: ситуация «маленького человека» в его взаимоотношениях с другими социальными типами). Но одновременно двойник служит и целям психологического изображения: ведь реально он вообще не существует, в нем лишь материализуется какая-то часть сознания самого Голядкина, – может быть, его подсознательные представления о самом себе, подавленные желания, волевые импульсы и пр. Персонаж-двойник здесь органичная форма для воплощения психологической раздвоенности героя. Раздвоенности, которую иначе, с помощью других приемов психологизма, было бы трудно изобразить, поскольку эта вторая сторона сознания Голядкина настолько скрыта от него самого, что не может проявиться ни в чувствах, ни в мыслях, ни в настроениях (которые можно было бы так или иначе художественно воссоздать), а только вот в такой патологической форме – вырвавшись из-под рационального контроля забитого и униженного самосознания. В «Двойнике» внимание Достоевского распределяется примерно в равной степени между проблематикой чисто социальной, нравоописательной и собственно романной, нравственно-психологической, отсюда и двойная функция персонажа-двойника.
А вот Черт, своеобразный двойник Ивана Карамазова, – это нечто совсем другое и по функции, и по самой структуре образа. В «Братьях Карамазовых» идейно-нравственная проблематика уже доминирует полностью; в результате эволюции миросозерцания Достоевского его внимание окончательно переключается на моральные вопросы, ключ ко всем проблемам он ищет в душе человека, в универсальных нравственных началах характера. В «Братьях Карамазовых» и психологический стиль Достоевского выступает окончательно сложившимся.
Двойник-Черт здесь уже никак не связан с сюжетным действием, этот персонаж используется исключительно как форма психологического изображения и анализа крайне противоречивого сознания Ивана, крайней напряженности его идейно-нравственных исканий. В чем конкретно это выражается? В том, во-первых, что Черт никаких самостоятельных сюжетных действий не предпринимает и ни с кем из персонажей не сталкивается: он является только Ивану (причем его появление строго мотивировано обострением душевной болезни героя) и исчезает с появлением Алеши. Черт вообще не может «объективироваться», отделиться от Ивана, как это мог сделать Нос Ковалева или двойник Голядкина. Какой бы то ни было, даже условный, вход в реальную действительность Черту абсолютно заказан, он существует лишь постольку, поскольку существует сознание Ивана. Во-вторых, – и это более важно – Черт наделен «собственной» идейно-нравственной позицией, своим образом мышления, чего по отношению к двойнику Голядкина или тем более майора Ковалева мы сказать не можем. Характерность внешности, манер, повадок Черта обусловлена именно его миросозерцанием (он циничен и развязен как в идеях и силлогизмах, так и в манере поведения, внешности), а не его социальным положением (которого у него вообще нет – это тоже важно), как у двойника Ковалева и Голядкина. Вследствие этого между Иваном и его двойником возможен диалог, причем не бытовой, а на уровне философской и нравственной проблематики. И как Черт вообще – воплощение какой-то стороны сознания Ивана, так и диалог между ними – это, по сути, внутренний диалог Ивана, его внутренний спор с самим собой, спор, как бы объективированный, как бы ставший из внутреннего внешним.
Так перестраивается в системе психологизма функция и внутренняя структура персонажей-двойников.
Во второй половине XIX века литературный психологизм стал уже вполне привычным для читателя, который начал искать в произведении прежде всего не внешней сюжетной занимательности, а изображения сложных и интересных душевных состояний. Читатель настроился на психологизм, и это сделало возможным появление еще одной, очень своеобразной формы психологического изображения.
Большой удельный вес психологизма, его особая динамичность, напряженность и важность с содержательной точки зрения, с одной стороны, и способность читателя самостоятельно анализировать внутренний мир личности, как реальной, так и вымышленной, – с другой, создавали в произведении особую атмосферу, насыщенную психологизмом. Это выражалось в том, что писатели могли использовать и использовали прием умолчания о процессах внутренней жизни и эмоциональном состоянии героя, заставляя читателя самого производить психологический анализ, намекая на то, что внутренний мир данного героя, хотя он прямо и не изображается, все-таки достаточно богат и заслуживает внимания. Возникает парадоксальная на первый взгляд ситуация: образ строится психологически, но в иные моменты почти без применения собственно психологического изображения.
Как пример приведем отрывок из последнего разговора Раскольникова с Порфирием Петровичем в «Преступлении и наказании». Возьмем кульминацию разговора: следователь только что прямо объявил Раскольникову, что считает убийцей именно его; нервное напряжение участников сцены достигает высшей точки:
« – Это не я убил, – прошептал было Раскольников, точно испуганные маленькие дети, когда их захватывают на месте преступления.
– Нет, это вы-с, Родион Романыч, вы-с, и некому больше-с, – строго и убежденно прошептал Порфирий.
Они оба замолчали, и молчание длилось даже до странности долго, минут с десять. Раскольников облокотился на стол и молча ерошил пальцами свои волосы. Порфирий Петрович сидел смирно и ждал. Вдруг Раскольников презрительно посмотрел на Порфирия.
– Опять вы за старое, Порфирий Петрович! Все за те же ваши приемы: как это вам не надоест, в самом деле?»
Очевидно, в эти десять минут, которые герои провели в молчании, психологические процессы не прекращались. И, разумеется, у Достоевского была полная возможность изобразить их детально: показать, что думал Раскольников, как он оценивал ситуацию и какие чувства испытывал по отношению к Порфирию и к себе самому. Словом, Достоевский мог (как не раз делал в других сценах романа) «расшифровать» молчание героя, наглядно продемонстрировать, в результате каких мыслей и переживаний Раскольников, сначала растерявшийся и сбитый с толку, уже, кажется, готовый признаться и покаяться, решает все-таки продолжать прежнюю игру. Но психологического изображения как такового здесь нет, а между тем сцена насыщена психологизмом. Психологическое содержание этих десяти минут читатель додумывает, ему без авторских пояснений понятно, что может переживать в этот момент Раскольников.
Как разновидность подтекста, художественного намека умолчание о скрытых психологических процессах оказывается весьма «выгодным» художественно, поскольку делает изображение внутреннего мира потенциально очень емким. В приведенном примере читатель может представить себе и лихорадочный внутренний монолог, в процессе которого Раскольников спешно пытается найти дальнейшую линию поведения, и пустоту в мыслях, своего рода душевное отупение, вызванное непосильным напряжением и усталостью («запредельное торможение», как говорят психологи), и отчаяние, и мысли о посторонних предметах; может представить себе смену этих моментов или их сосуществование – все это читатель уже наблюдал в других эпизодах романа. Таким образом, несмотря на формальное отсутствие психологического изображения в тексте, оно в этот момент как бы продолжает существовать в читательском сознании.
Заметим кстати, что с умолчанием как приемом психологизма приходится очень и очень считаться режиссерам и особенно актерам. При постановке или экранизации они именно в эти моменты становятся истинными соавторами писателя. Поток сценического действия не допускает никаких пробелов и разрывов в эмоциональном рисунке; психологическая интерпретация текста, где формально отсутствует повествование о скрытых процессах, но всей стилевой структурой оно подразумевается, становится обязательной.
Установка на читательское домысливание, очевидно, была в значительной мере осознана самими писателями; тот же Достоевский писал: «Не один только сюжет романа важен для читателя, но и некоторое знание души человеческой (психологии), чего каждый автор вправе ждать от читателя».
Наиболее широкое распространение прием умолчания получил несколько позже, в творчестве Чехова, а впоследствии – многих других писателей XX века.
Вполне возможно, что такой прием психологического изображения появляется в литературе еще и потому, что все возрастающая сложность характера и внутреннего мира человека в конце концов осознается буквально как неисчерпаемая, принципиально не могущая быть понятой и изображенной до конца, во всех деталях. Даже сам герой, в высшей степени склонный к самоанализу (как у Достоевского и Толстого), не мог разобраться полностью в сложности своего внутреннего мира. Не мог сделать этого и повествователь. Но важно было дать почувствовать эту неисчерпаемую сложность, намекнуть на нее, обозначить в ней все, что возможно.
Часто писатель сознательно оставляет простор читательским домыслам, представляя картину внутреннего мира персонажа не как законченную и абсолютную, а как наиболее вероятную и лишь в некоторых деталях. Именно здесь незаменим психологический анализ от лица другого персонажа или повествователя, не претендующего на абсолютность, а позволяющего дополнять и отчасти даже видоизменять нарисованную им картину. Не случайно обе формы психологического анализа – и от лица персонажа, и с помощью приема умолчания – применялись Достоевским вместе.
Общие приемы и способы психологического изображения, о которых шла речь в этой главе, естественно, используются разными писателями по-разному. Благодаря этому создается неповторимость, своеобразие психологических стилей таких писателей-психологов, как Лермонтов, Тургенев, Л. Толстой, Достоевский, Чехов, Горький. В соответствии с особенностями проблематики, интересом к тем или иным характерам и положениям каждый писатель по-своему подходит к внутреннему миру человека, раскрывает его с разных сторон. Душевная жизнь личности неодинакова у героев «Войны и мира» и «Преступления и наказания», «Что делать?» и «Дамы с собачкой». В этой неодинаковости своя эстетическая правда: личность многолика и разные писатели-психологи позволяют нам взглянуть на человека с разных сторон, тем самым – лучше познать закономерности душевной жизни, а через них – закономерности нравственно-философских поисков.
Из книги Богини в каждой женщине [Новая психология женщины. Архетипы богинь] автора Болен Джин ШинодаТРИУМФ ИЗОБРАЖЕНИЯ Чрезвычайно важным вопросом, который мы не можем обстоятельно рассмотреть в этой работе, но который заслуживает самостоятельного исследования, является вопрос об отношении «массовой культуры» к различным средствам массовой информации (масс-медиа) и
Из книги История и повествование автора Зорин Андрей Леонидович Из книги Коллективная чувственность. Теории и практики левого авангарда автора Чубаров Игорь М. Из книги Сериал как искусство [Лекции-путеводитель] автора Жаринов Евгений ВикторовичАндрей Зорин Понятие «литературного переживания» и конструкция психологического протонарратива Проблема литературного поведения была поставлена в цикле ставших классическими работ Ю. М. Лотмана. Ученый показал, как те или иные исторические персонажи выстраивают
Из книги Компонуем кинокадр. автора Медынский Сергей ЕвгеньевичПервоначальный проект физико-психологического отделения ГАХН и роль В. Кандинского Собственное видение синтеза искусствоведческих наук и искусства физико-психологическое, социологическое и философское отделения вырабатывали постепенно, уже в процессе деятельности
Из книги автораМонтаж звука и изображения Тезис Жобера о том, что музыка лишь заполняет бреши в фильме «из страха перед длиннотами в статических сценах», опровергается всей практикой звукового кино. Эта практика доказывает, что действие звуковой сферы в фильме усиливается там, где
Из книги автораМасштаб изображения. Посмотреть издали и увидеть вблизи.Испокон веков мастера живописи изображали окружающий их мир. На любой выставке посетители видели и открытые ландшафты, и портреты людей, и натюрморты с крупными предметами. Картины художников подсказывали первым
При анализе психологических деталей следует обязательно иметь в виду, что в разных произведениях они могут играть принципиально различную роль.
В одном случае психологические детали немногочисленны, носят служебный, вспомогательный характер - тогда мы говорим об элементах психологического изображения; их анализом можно, как правило, пренебречь.
В другом случае психологическое изображение занимает в тексте существенный объем, обретает относительную самостоятельность и становится чрезвычайно важным для уяснения содержания произведения. В этом случае в произведении возникает особое художественное качество, называемое психологизмом.
Психологизм - это освоение и изображение средствами художественной литературы внутреннего мира героя: его мыслей, переживаний, желаний, эмоциональных состояний и т.п., причем изображение, отличающееся подробностью и глубиной.
Существуют три основные формы психологического изображения, к которым сводятся в конечном счете все конкретные приемы воспроизведения внутреннего мира.
Две из этих трех форм были теоретически выделены И.В. Страховым: «Основные формы психологического анализа возможно разделить на изображение характеров «изнутри», - то есть путем художественного познания внутреннего мира действующих лиц, выражаемого при посредстве внутренней речи, образов памяти и воображения; на психологический анализ «извне», выражающийся в психологической интерпретации писателем выразительных особенностей речи, речевого поведения, мимического и других средств внешнего проявления психики».
Назовем первую форму психологического изображения прямой, а вторую косвенной, поскольку в ней мы узнаем о внутреннем мире героя не непосредственно, а через внешние симптомы психологического состояния.
О первой форме мы еще будем говорить чуть ниже, а пока приведем пример второй, косвенной формы психологического изображения, которая особенно широко использовалась в литературе на ранних ступенях развития:
Мрачное облако скорби лицо Ахиллеса покрыло.
Обе он горсти наполнивши пеплом, главу им осыпал:
Лик молодой почернел, почернела одежда, и сам он
Телом великим пространство покрывши великое, в прахе
Был распростерт, и волосы рвал, и бился о землю.
Гомер. «Илиада». Пер В.А. Жуковского
Перед нами типичный пример косвенной формы психологического изображения, при котором автор рисует лишь внешние симптомы чувства, нигде не вторгаясь прямо в сознание и психику героя.
Но у писателя существует еще одна возможность, еще один способ сообщить читателю о мыслях и чувствах персонажа - с помощью называния, предельно краткого обозначения тех процессов, которые протекают во внутреннем мире.
Будем называть такой способ суммарно-обозначающим. А.П. Скафтымов писал об этом приеме, сравнивая особенности психологического изображении у Стендаля и Толстого: «Стендаль идет по преимуществу путями вербального обозначения чувства. Чувства названы, но не показаны», а Толстой подробно прослеживает процесс протекания чувства во времени и тем самым воссоздает его с большей живостью и художественной силой.
Итак, одно и то же психологическое состояние можно воспроизвести с помощью разных форм психологического изображения. Можно, например, сказать: «Я обиделся на Карла Ивановича за то, что он разбудил меня», - это будет суммарно-обозначающая форма. Можно изобразить внешние признаки обиды: слезы, нахмуренные брови, упорное молчание и т.п. - это косвенная форма. А можно, как это и сделал Толстой, раскрыть внутреннее состояние при помощи прямой формы психологического изображения: «Положим, - думал я, - я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? Вон их сколько? Нет, Володя старше меня, а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, - прошептал я, - как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает... противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка - какие противные!»
Естественно, что каждая форма психологического изображения обладает разными познавательными, изобразительными и выразительными возможностями. В произведениях писателей, которых мы привычно называем психологами - Лермонтова, Толстого, Флобера, Мопассана, Фолкнера и других, - для воплощения душевных движений используются, как правило, все три формы. Но ведущую роль в системе психологизма играет, разумеется, прямая форма - непосредственное воссоздание процессов внутренней жизни человека.
Кратко познакомимся теперь с основными приемами психологизма, с помощью которых достигается изображение внутреннего мира. Во-первых, повествование о внутренней жизни человека может вестись как от первого, так и от третьего лица, причем первая форма исторически более ранняя. Эти формы обладают разными возможностями.
Повествование от первого лица создает большую иллюзию правдоподобия психологической картины, поскольку о себе человек рассказывает сам. В ряде случаев психологическое повествование от первого лица приобретает характер исповеди, что усиливает впечатление.
Эта повествовательная форма применяется главным образом тогда, когда в произведении - один главный герой, за сознанием и психикой которого следит автор и читатель, а остальные персонажи второстепенны, и их внутренний мир практически не изображается («Исповедь» Руссо, «Детство», «Отрочество» и «Юность» Толстого и др.).
Повествование от третьего лица имеет свои преимущества в плане изображения внутреннего мира. Это именно та художественная форма, которая позволяет автору без всяких ограничений вводить читателя во внутренний мир персонажа и показывать его наиболее подробно и глубоко.
Повествователь может прокомментировать самоанализ героя, рассказать о тех душевных движениях, которые сам герой не может заметить или в которых не хочет себе признаться, как, например, в следующем эпизоде из «Войны и мира»: «Наташа со своей чуткостью тоже мгновенно заметила состояние своего брата.
Она заметила его, но ей самой так весело было в ту минуту, так далека она была от горя, грусти, упреков, что она <...> нарочно обманула себя. "Нет, мне слишком весело теперь, чтобы портить свое веселье сочувствием чужому горю", почувствовала она и сказала себе: "Нет, я, верно, ошибаюсь, он должен быть так же весел, как и я"».
Одновременно повествователь может психологически интерпретировать внешнее поведение героя, его мимику и пластику и т.п., о чем говорилось выше в связи с психологическими внешними деталями.
Повествование от третьего лица дает широкие возможности для включения в произведение самых разных приемов психологического изображения: в такую повествовательную стихию легко и свободно вливаются внутренние монологи, публичные исповеди, отрывки из дневников, письма, сны, видения и т.п.
Повествование от третьего лица наиболее свободно обращается с художественным временем, оно может подолгу останавливаться на анализе скоротечных психологических состояний и очень кратко информировать о длительных периодах, имеющих в произведении, например, характер сюжетных связок.
Это дает возможность повышать удельный вес психологического изображения в общей системе повествования, переключать читательский интерес с подробностей событий на подробности чувства.
Кроме того, психологическое изображение в этих условиях может достигать максимальной детализации и исчерпывающей полноты: психологическое состояние, которое длится минуты, а то и секунды, может растягиваться в повествовании на несколько страниц; едва ли не самый яркий пример тому - отмеченный еще Н.Г. Чернышевским эпизод смерти Праскухина в «Севастопольских рассказах» Толстого.
Наконец, повествование от третьего лица дает возможность изобразить внутренний мир не одного, а многих героев, что при другом способе повествования сделать гораздо сложнее.
К приемам психологического изображения относятся психологический анализ и самоанализ. Суть обоих приемов в том, что сложные душевные состояния раскладываются на составляющие и тем самым объясняются, становятся ясными для читателя. Психологический анализ применяется в повествовании от третьего лица, самоанализ - в повествовании как от первого, так и от третьего лица. Вот, например, психологический анализ состояния Пьера из «Войны и мира»:
«... он понял, что эта женщина может принадлежать ему.
"Но она глупа, я сам говорил, что она глупа, - думал он. - Что-то гадкое есть в том чувстве, которое она возбудила во мне, что-то запрещенное <...>» - думал он; и в то же время, как он рассуждал так (еще рассуждения эти оставались неоконченными), он заставал себя улыбающимся и сознавал, что другой ряд рассуждений всплывал из-за первых, что он в одно и то же время думал о ее ничтожестве и мечтал о том, как она будет его женой <...>
И он опять видел ее не какой-то дочерью князя Василья, а видел все ее тело, только прикрытое серым платьем. "Но нет, отчего же прежде не приходила мне в голову эта мысль?" И опять он говорил себе, что это невозможно, что что-то гадкое, противоестественное, как ему казалось, нечестное было бы в этом браке <...>
Он вспомнил слова и взгляды Анны Павловны, когда она говорила ему о доме, вспомнил тысячи таких намеков со стороны князя Василья и других, и на него нашел ужас, не связал ли он уж себя чем-нибудь в исполнении такого дела, которое, очевидно, нехорошо и которое он не должен делать. Но в то же время, как он сам себе выражал это решение, с другой стороны души всплывал ее образ со всею своею женственною красотою».
Здесь сложное психологическое состояние душевной смятенности аналитически расчленено на составляющие: прежде всего выделены два направления рассуждений, которые, чередуясь, повторяются то в мыслях, то в образах.
Сопровождающие эмоции, воспоминания, желания воссозданы максимально подробно. То, что переживается одновременно, развертывается у Толстого во времени, изображено в последовательности, анализ психологического мира личности идет как бы поэтапно. В то же время сохраняется и ощущение одновременности, слитности всех компонентов внутренней жизни, на что указывают слова «в то же время».
В результате создается впечатление, что внутренний мир героя представлен с исчерпывающей полнотой, что прибавить к психологическому анализу уже просто нечего; анализ составляющих душевной жизни делает ее предельно ясной для читателя.
А вот пример психологического самоанализа из «Героя нашего времени»: «Я часто спрашиваю себя, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? Вера меня любит больше, чем княжна Мери будет любить когда-нибудь; если б она мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я завлекся бы трудностью предприятия <...>
Но ничуть не бывало! Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости <...>
Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! Он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего <...>
А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся душой!.. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы.
Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие - подчинять моей воле все, что меня окружает».
Обратим внимание на то, насколько аналитичен приведенный отрывок: это уже почти научное рассмотрение психологической задачи, как по методам ее разрешения, так и по результатам. Сначала поставлен вопрос, со всей возможной четкостью и логической ясностью. Затем отбрасываются заведомо несостоятельные объяснения («обольстить не хочу и никогда не женюсь»). Далее начинается рассуждение о более глубоких и сложных причинах: в качестве таковых отвергается потребность в любви, зависть и «спортивный интерес». Отсюда делается вывод уже прямо логический: «Следовательно...».
Наконец аналитическая мысль выходит на правильный путь, обращаясь к тем положительным эмоциям, которые доставляет Печорину его замысел и предчувствие его выполнения: «А ведь есть необъятное наслаждение...».
Анализ идет как бы по второму кругу: откуда это наслаждение, какова его природа? И вот результат: причина причин, нечто бесспорное и очевидное («Первое мое наслаждение...»).
Важным и часто встречающимся приемом психологизма является внутренний монолог - непосредственная фиксация и воспроизведение мыслей героя, в большей или меньшей степени имитирующее реальные психологические закономерности внутренней речи.
У психологического процесса своя логика, он прихотлив, и его развитие во многом подчиняется интуиции, иррациональным ассоциациям, немотивированным на первый взгляд сближения представлений и т.п. Все это и отражается во внутренних монологах.
Кроме того, внутренний монолог обычно воспроизводит и речевую манеру данного персонажа, а следовательно, и его манеру мышления. Вот, в качестве примера отрывок из внутреннего монолога Веры Павловны в романе Чернышевского «Что делать?»:
«Хорошо ли я сделала, что заставила его зайти?..
И в какое трудное положение поставила я его!..
Боже мой, что со мной, бедной, будет?
Есть одно средство, говорит он, - нет, мой милый, нет никакого средства.
Нет, есть средство; вот оно: окно. Когда будет уже слишком тяжело, брошусь из него.
Какая я смешная: «когда будет слишком тяжело» - а теперь-то?
А когда бросишься в окно, как быстро, быстро полетишь <...> Нет, это хорошо <...>
Да, а потом? Будут все смотреть: голова разбитая, лицо разбитое, в крови, в грязи <...>
А в Париже бедные девушки задушаются чадом. Вот это хорошо, это очень, очень хорошо. А бросаться из окна нехорошо. А это хорошо».
Внутренний монолог, доведенный до своего логического предела, дает уже несколько иной прием психологизма, нечасто употребляющийся в литературе и называемый «потоком сознания». Этот прием создает иллюзию абсолютно хаотичного, неупорядоченного движения мыслей и переживаний. Вот пример этого приема из романа Толстого «Война и мир»:
«"Должно быть, снег - это пятно; пятно - une tach" - думал Ростов. - "Вот тебе и не таш..."
"Наташа, сестра, черные глаза. На... ташка... (вот удивится, когда я ей скажу, как я увидал государя!) Наташку... ташку возьми... Да, бишь, что я думал? - не забыть. Как с государем говорить буду? Нет, не то, это завтра. Да, да! На ташку наступить... тупить нас - кого? Гусаров. А гусары и усы... По Тверской ехал этот гусар с усами, я еще подумал о нем, против самого Гурьева дома... Старик Гурьев... Эх, славный малый Денисов! Да, все это пустяки. Главное теперь - государь тут. Как он на меня смотрел, и хотелось ему что-то сказать, да он не смел... Нет, это я не смел. Да это пустяки, а главное - что я что-то нужное думал, да. На-ташку, нас-тупить, да, да, да. Это хорошо"».
Еще одним приемом психологизма является так называемая диалектика души. Термин принадлежит Чернышевскому, который так описывает этот прием: «Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других, как чувство, непосредственно вытекающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь по всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная первым ощущением, ведет к другим мыслям, увлекается все дальше и дальше, сливает грезы с действительными ощущениями, мечты о будущем с рефлексиею о настоящем».
Иллюстрацией этой мысли Чернышевского могут быть многие страницы книг Толстого, самого Чернышевского, других писателей. В качестве примера приведем (с купюрами) отрывок из размышлений Пьера в «Войне и мире»:
«То ему представлялась она (Элен. - А.Е.) в первое время после женитьбы, с открытыми плечами и усталым, страстным взглядом, и тотчас же рядом с нею представлялось красивое, наглое и твердо-насмешливое лицо Долохова, каким оно было на обеде, и то же лицо Долохова, бледное, дрожащее и страдающее, каким оно было, когда он повернулся и упал на снег.
«Что ж было? - спрашивал он сам себя. - Я убил любовника, да, убил любовника своей жены. Да. Это было. Отчего? Как я дошел до этого? - Оттого, что ты женился на ней», - отвечал внутренний голос.
«Но в чем же я виноват? - спрашивал он. - В том, что ты женился, не любя ее, в том, что ты обманул и себя и ее, - и ему живо представилась та минута после ужина у князя Василья, когда он сказал эти не выходившие из него слова: "Je vous aime". Все от этого! Я и тогда чувствовал, - думал он, - я чувствовал тогда, что это было не то, что я не имел на это права. Так и вышло». Он вспомнил медовый месяц и покраснел при этом воспоминании <...>».
А сколько раз я гордился ею <...> - думал он <..> - Так вот чем я гордился?! Я тогда думал, что не понимаю ее <...> а вся разгадка была в том страшном слове, что она развратная женщина: сказал себе это страшное слово, и все стало ясно!» <...>
Потом он вспомнил грубость, ясность ее мыслей и вульгарность выражений <...> «Да я никогда не любил ее, - говорил себе Пьер, - я знал, что она развратная женщина, - повторял он сам себе, - но не смел признаться в этом.
И теперь Долохов, вот он сидит на снегу и насильно улыбается и умирает, может быть притворным каким-то молодечеством отвечая на мое раскаяние!» <...>
«Она во всем, во всем она одна виновата, - говорил он сам себе. - Но что ж из этого? Зачем я себя связал с нею, зачем я ей сказал это: "Je vous aime", которое было ложь, и еще хуже, чем ложь, - говорил он сам себе. - Я виноват <...>
Людовика XVI казнили за то, что они говорили, что он был бесчестен и преступник (пришло Пьеру в голову), и они были правы с своей точки зрения, так же, как правы и те, которые за него умирали мученической смертью и причисляли его к лику святых.
Потом Робеспьера казнили за то, что он был деспот. Кто прав, кто виноват? Никто. А жив - и живи: завтра умрешь, как я мог умереть час тому назад. И стоит ли того мучиться, когда жить остается одну секунду в сравнении с вечностью?»
Но в ту минуту, как он считал себя успокоенным такого рода рассуждениями, ему вдруг представлялась она и те минуты, когда он сильнее всего выказывал ей свою неискреннюю любовь, - и он чувствовал прилив крови к сердцу, и должен был опять вставать, двигаться, и ломать, и рвать попадающиеся ему под руку вещи. Зачем я сказал ей "Je vous aime"? - все повторял он сам себе».
Отметим еще один прием психологизма, несколько парадоксальный на первый взгляд, - это прием умолчания. Он состоит в том, что писатель в какой-то момент вообще ничего не говорит о внутреннем мире героя, заставляя читателя самого производить психологический анализ, намекая на то, что внутренний мир героя, хотя он прямо и не изображается, все-таки достаточно богат и заслуживает внимания.
Как пример этого приема приведем отрывок из последнего разговора Раскольникова с Порфирием Петровичем в «Преступлении и наказании». Возьмем кульминацию диалога: следователь только что прямо объявил Раскольникову, что считает убийцей именно его; нервное напряжение участников сцены достигает высшей точки:
«- Это не я убил, - прошептал было Раскольников, точно испуганные маленькие дети, когда их захватывают на месте преступления.
Нет, это вы-с, Родион Романыч, вы-с, и некому больше-с, - строго и убежденно прошептал Порфирий.
Оба они замолчали, и молчание длилось до странности долго, минут с десять. Раскольников облокотился на стол и молча ерошил пальцами свои волосы. Порфирий Петрович сидел смирно и ждал. Вдруг Раскольников презрительно посмотрел на Порфирия.
Опять вы за старое, Порфирий Петрович! Все за те же ваши приемы: как это вам не надоест, в самом деле?»
Очевидно, что в эти десять минут, которые герои провели в молчании, психологические процессы не прекращались. И разумеется, у Достоевского была полная возможность изобразить их детально: показать, что думал Раскольников, как он оценивал ситуацию и какие чувства испытывал по отношению к Порфирию Петровичу и себе самому.
Словом, Достоевский мог (как не раз делал в других сценах романа) «расшифровать» молчание героя, наглядно продемонстрировать, в результате каких мыслей и переживаний Раскольников, сначала растерявшийся и сбитый с толку, уже, кажется готовый.признаться и покаяться, решает все-таки продолжать прежнюю игру. Но психологического изображения как такового здесь нет, а между тем сцена насыщена психологизмом.
Психологическое содержание этих десяти минут читатель додумывает, ему без авторских пояснений понятно, что может переживать в этот момент Раскольников.
Наиболее широкое распространение прием умолчания приобрел в творчестве Чехова, а вслед за ним - многих других писателей XX в.
Наряду с перечисленными приемами психологизма, которые являются наиболее распространенными, писатели иногда используют в своих произведениях специфические средства изображения внутреннего мира, такие, как имитация интимных документов (романы в письмах, введение дневниковых записей и т.п.), сны и видения (особенно широко эта форма психологизма представлена в романах Достоевского), создание персонажей-двойников (например, Черт как своеобразный двойник Ивана в романе «Братья Карамазовы») и др. Кроме того, как прием психологизма применяются также внешние детали, о чем речь шла выше.
Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. - М., 1998г.
§5. Поэтика психологизма (особенности психологического письма в прозе ХХ века)
Мастеров художественного слова часто называют психологами, с точностью и глубиной изображающими внутренний мир человека. В литературе находят иллюстрации или предвосхищения научно-психологических открытий, черпают материал для психиатрических типологий (т.е. уравнивают литературу и жизнь, литературу и психологию).
Психологизм имеет, прежде всего, художественно-эстетическую ценность, является показателем авторской аксиологии и мировоззрения. Внутренний мир человека в фокусе литературы получает специфическую интерпретацию и оценку. Происходит перекодировка неовеществленного материала (психики) в систему художественных знаков (форм, способов, приемов психологизма). Их «арсенал» формируется в процессе развития литературы.
Поэтика психологизма
– производна от философских и научных представлений эпохи о человеке (это база для авторских теоретических представлений о психике человека и способах его познания);
– обусловлена концепцией личности, художественной системой, творческим методом,
Таким образом, динамика психологизма в литературе есть эволюция его форм и приемов от простых к более сложным и опосредованным.
Литературоведы предлагают выделять две основных формы психологического анализа: «изнутри» (прямая форма) и «извне» (косвенная, внешняя) форма. В формулировке Л.Я. Гинзбург: «Психологический анализ осуществляется в форме прямых авторских размышлений или в форме самоанализа героев, или косвенным образом – в изображении их жестов, поступков, которые должен аналитически истолковать подготовленный автором читатель» . И.В. Страхов разделяет формы психологического анализа на изображение характеров «изнутри » («путем познания внутреннего мира действующих лиц, выражаемого при посредстве внутренней речи, образов памяти и воображения») и на психологический анализ «извне » («интерпретацию писателем выразительных особенностей речи, речевого поведения, мимического и др. средств внешнего проявления психики») .
В целом, соглашаясь с типологией И.В. Страхова, А.Б. Есин предлагает дополнить ее третьей формой – «суммарно-обозначающей»: «способ сообщить читателю о мыслях и чувствах персонажа – с помощью называния, предельно краткого обозначения тех процессов, которые протекают во внутреннем мире» .
В. Гудонене также говорит о трех формах психологического анализа:
Очевидно, что при разграничении психологических форм использование пространственного обозначения (изнутри-извне) порождает путаницу, связанную со смешением повествовательных инстанций, субъектно-объектных отношений. Особенно зримы эти смешения в графическом варианте В. Гудонене (см. схему).
|
Драматургические средства, связанные с исполнительством |
Аналитические |
|
|
Мимический психологизм |
Самораскрытие персонажа |
|
|
Мимика, жест, смех, манера говорения |
Диалог с подтекстом. «Скрытый диалог» Двойной диалог Двуплановый диалог |
комментарий |
|
умолчания, недоговоренность, |
Исповедь (устная; письменная – дневник, письмо, журнал) |
|
|
Психологические |
Внутренний монолог Несобственно-прямая речь Поток сознания (формы предсознания) |
Психологизированный пейзаж, мир звуков |
|
Сон, видение, грезы, галлюцинации, кошмары, двойничество (разорванное сознание бессознательное) |
Психологическая деталь |
|
В. Гудонене, в ряду других исследователей (И.В.Страхов, А.Б.Есин), классифицирует приемы психологической репрезентации в границах литературы XIX в. Само определение – «формы психологического анализа» – вынужденно отсылает к аналитике психологизма в ее реалистической модификации (объяснение характера). В целом, предложенные классификации не в полной мере отражают литературную реальность. Не случайно О.Н. Осмоловский предлагает говорить о «психологическом методе (манере)» и, учитывая своеобразие литературы ХХ в., о ее лирическом, драматическом и эпическом вариантах.
Традиционные приемы психологического письма достаточно полно и иллюстративно освещены в исследовательской литературе (Л.Я. Гинзбург, А.Н. Есин), пособиях и материалах для студентов по психологическому анализу художественных произведений . Особо разработаны приемы психологической детализации, портретирования, повествовательные формы (внутренняя и внешняя речь персонажа, диалог, авторский комментарий).
В ХХ в. используются уже освоенные литературой прошлого века приемы и способы психологического изображения, но в их иерархии начинают лидировать повествовательно-композиционные (связанные с перемещениями «точки зрения» и субъектом повествования).
В системе объективного психологизма автор изображал внутренний мир персонажей с позиций всеведения (в прозе – через описание душевных движений и чувств, через прямой авторский анализ). Этот тип повествования реалистами второй половины XIX в. был осмыслен как художественная условность (Г. Флобер, Л.Н. Толстой). Динамику внутренних процессов стали репрезентировать, с одной стороны, поступок, жест, деталь, с другой – повествовательно-композиционные приемы, связанные с «точкой зрения». А.В. Карельский перечисляет некоторые из них (апеллируя к европейской романистике 1830 – 1860-х гг.) :
1) внезапное, демонстративное переключение повествователем внимания с внутреннего мира персонажа на внешний фон (прием замещения кульминационных состояний души описанием внешних действий и фактов);
2) обыгрывание деталей (там, где анализ сосредоточен на переходных состояниях, на побуждениях, наполовину сознаваемых);
3) особые формы речевых характеристик:
– речь персонажа не равна его мыслям и чувствам, поскольку они часто не контролируемы разумом;
– в структуре диалога отражаются разнонаправленные побуждения и мотивы;
– мысль формируется в процессе высказывания, ею персонаж проверяет себя и прощупывает собеседника;
– в речи многозначительные междометия, восклицания, паузы, умолчания – подтекстовая фиксация пульсирующих чувств.
В литературе ХХ в. «точка зрения» повествователя, соотношение точек зрения субъектов повествования (рассказчика, героя) оказываются особозначимыми в психологическом отношении. Это продолжение традиции недоверия к авторитарному слову и позиции всеведения.Категория «точки зрения» лежит в основе главных типов психологизма – объективного и субъективного (соответствующих в плане композиции, согласно концепции Б.А. Успенского, внешней и внутренней психологической точке зрения) .
Внешняя точка зрения предполагает, что для рассказчика (автора, одного из персонажей) поведение и внутренний мир человека объект наблюдения и анализа. Формально данная позиция закрепляется в повествовании от 3-го лица.
Приемы, которые выстраиваются на базе этой повествовательной дефиниции: «центральное сознание » и «множественное отражение ». Показ героя через восприятие его другими персонажами достаточно эффективен и распространен в литературе ХХ в. Прием «центрального сознания» (использовавшийся И.С. Тургеневым, Г.Джеймсом, Л. фон Захером-Мазохом) предполагает повествование и оценку материала персонажем, не являющимся центром романного действия, но наделенного интеллектуально-чувственными способностями и способностью к анализу увиденного. Прием «множественности отражения», напротив, связан с наличием нескольких точек зрения, направленных на один объект. В результате изображение получает многогранность (стереоскопический эффект) и объективность.
Внутренняя психологическая точка зрения предполагает, что субъект и объект психологического наблюдения слиты, что соответствует структуре повествования от 1-го лица. Приемы, свойственные этой позиции: исповедь, дневниковые записи, внутренний монолог (без следов присутствия нарратора), «поток сознания».
Прием «потока сознания » традиционно воспринимается как доведенная до своего предела форма внутреннего монолога. Такое понимание связано с представлением о сознании как реке со множеством течений (мыслей, ассоциаций, ощущений, образов памяти), синхронно сосуществующих (в трактовке У. Джеймса). В литературе «поток сознания» связан с разверткой этой синхронности в линейный ряд повествования. «Поток сознания» – последовательное выделение разнокачественных квантов сознательно-подсознательной сферы (эмоционально-чувственной, мыслительной или образной).
В литературе «поток сознания» использовался как отдельный реалистический прием; как «метод изображения жизни, претендующий на универсальность». Он функционирует в системе неопсихологизма ХХ в. (Д. Джойс, В. Вулф, Н. Саррот).
М. Пруст, Д. Джойс закладывают традицию «герменевтического» исследования внутренней жизни современника. В максимальной приближенности к автору-творцу (М. Пруст) или в большем удалении от собственной личности (Д. Джойс) они смещают художественную оптику «внутрь» сознания своего героя. Результат – техника ассоциаций, «потока сознания», «стилистически адекватная предмету изображения» . Предельная субъективизация такого повествования становится способом воссоздания атмосферы вселенского хаоса. Единственной возможностью установить контакт между осязаемой «вещностью» реальности и микрокосмом являются ассоциативные связи, рожденные посредством телесной субстанции (через свет, цвет, запах). В этих экспериментах формируется психологизм субъективного типа, исследование «сознания без границ».
С.С. Хоружий отмечает, что «в понимании этого дискурса («потока сознания») долго держался … наивный взгляд, по которому цель и суть дискурса – точнейшая регистрация работы сознания человека» . Этот художественный прием не связан с «попыткой снятия энцефалограммы человеческого мозга» и авторской непроявленностью в дискурсе: «Во … фрагментах текстов «потока сознания» автор присутствует скрыто, его функция заключается в анонимном придании невербальным образам сознания, не опосредованным словесной формой в сознании персонажей, вербальной формы» . Цель авторского анонимного вторжения – вербализация (1) ощущений от внешнего мира и (2) мысле-образов из сознательно-бессознательных сфер.
«Собачий лай приближался, смолкал, уносился прочь. Собака моего врага. Я стоял неподвижно, безмолвный, бледный, затравленный. Terribilia meditas. Лимонный камзол, слуга фортуны посмеивался над моим страхом. И это тебя манит, собачий лай их аплодисментов?..» («Улисс»).
Фиксируется звук (в динамике его силы и протяженности), цвет, ассоциации (внешний план: собачий лай, внутренний: собака моего врага – слуга фортуны – цитаты из трагедий Шекспира). Прием «потока сознания» – пунктир из пропусков и фиксаций элементов неоформленной (но целенаправленно вербализуемой в дискурс) психической материи. Его суть обнажается при сопоставлении (1) логической и (2) ассоциативной разверток:
(1) «...Стивен, закрыв глаза, прислушался, как хрустят мелкие ракушки и водоросли под его ногами...»;
(2) «...Так или иначе, ты сквозь это идешь. Иду, шажок за шажком. За малый шажок времени сквозь малый шажок пространства. Пять, шесть: Nacheinander! Совершенно верно, и это – неотменимая модальность слышимого. Открой глаза. Нет. Господи! Если я свалюсь с утеса грозного, нависшего над морем, свалюсь неотменимо сквозь Nebeneinander!..» .
Джойс индивидуализирует «поток сознания» центральных персонажей «Улисса»: вечной рекой с эротическим течением движется «женский дискурс» Молли, поэтическими и интеллектуальными ассоциативными сцеплениями отмечен поток мысле-чувствований Стивена, прагматичным в своей привязанности к внешнему миру выглядит «поток сознания» Блума. Каждый из них имеет собственное стилистическое, ритмическое и даже визуальное оформление. Функция «потока сознания» связана не только с субъективным отражением реальности. И.В. Шабловская подчеркивает, что «этот прием представления мира через восприятие человека оказывается максимально продуктивен для того, чтобы представить самого этого человека. Потому что личность человеческая не в поступках, а в <…> том качестве работы сознания вместе с подсознанием, которое протекает внутри нас непрерывным процессом в результате чего и возникает поток сознания внутри нас. Он есть суть нашей индивидуальности, там наше, человеческое “Я”» .
Хаотичность восприятия жизни оборачивается вниманием к инстинктивной, иррациональной стороне человеческой натуры, а ее художественное постижение в корне изменяет архитектонику, стилистику произведений. Сгущенность переживаний выливается во внутренние монологи, «поток сознания» (М. Пруст, Д. Джойс), из которых в результате без голоса всеведающего автора складываются композиционные блоки романа (У. Фолкнер, Г. Белль).
С тенденцией недоверия к авторитарности автора, его аналитического способа психологической репрезентации связан переход литературы к. XIX – ХХ в. к субъективизации, в режим подтекстового структурирования. Психологический подтекст – диалог автора и читателя, когда реципиент сам должен развернуть анализ, исходя из авторских намеков в тексте. «Лирический принцип типизации» (термин А.Н. Андреева) обусловливает включение в систему психологического письма средств эмоционального интонирования. Ритм, фигуры поэтические (умолчание, повтор, градация, умолчание) и синтаксические (повторы слов, союзов, конструкций) создают эмоциональный фон произведения. Значимость приобретает «синестезия» (фиксация цвета, звука, запаха, вкуса и др.).
Выведение информации в подтекст в случаях особого психологического напряжения было присуще И.С. Тургеневу, А.П. Чехову, однако в литературе ХХ в. этот прием получает большую разработку и вес в системе психологизма (Э. Хемингуэй, В. Вулф, В.В. Набоков).
Психологический (и в целом сюжетный) подтекст в романе В. Вулф «Миссис Дэллоуэй» представляет собой «изложение фактов, сжатое до намека, в котором недостаток информации компенсируется концентрацией скрытой экспрессивности… входит в качестве элемента в поток внутренней речи того или иного героя и имеет огромное значение для понимания его мировосприятия, чувств, поступков и их психологических мотивировок» . Ассоциации (услышанная история, воспоминание) выявляют невербализованные ощущения и чувства Клариссы. Так, например, в сознании героини, возвращающейся к размышлениям об окончании войны и продолжении жизни, вдруг всплывают слова, услышанные ранее:
«Война кончилась, в общем, для всех; правда, миссис Фокскрофт вчера изводилась в посольстве из-за того, что тот милый мальчик убит и загородный дом теперь перейдет кузену; и леди Бексборо открывала базар, говорят, с телеграммой в руке о гибели Джона, ее любимца; но война кончилась; кончилась, слава Богу. Июнь…» .
В подтекст вынесены чувства и ощущения: «болезненно воспринимает Кларисса события войны, потери, которые она принесла (хотя лично ее война никак не затронула); и хотя жизнь прекрасна, а время лечит, совершенно очевидно, что ни забыть, и оправдать эти потери Кларисса не в состоянии» . Чтобы раскрыть суть внутренних процессов, В.Вулф использует два регистра повествования – внешний и внутренний, интеллектуально-эмоциональный. Они находят свое воплощение и в ритмическом, и в композиционном строе текста: симультанность и музыкальные принципы организуют смену голосов и точек зрения (Н.Поваляева выделяет в романах Вулф все известные виды полифонии).
Психологический подтекст может быть связан с «тайным психологизмом», с героем, характер которого реалистически мотивирован (Э. Хемингуэй), или принципиально «внехарактерен» (В.В. Набоков).
Подтекст первого типа можем наблюдать в прозе Э. Хемингуэя. Это так называемый «секрет айсберга», который предполагает, что из реплик, деталей, интонаций, самого тона повествования у читателя сложится представление о динамике психологических состояний персонажа. Текст содержит точные сигналы (повторы, ключевые фразы, лейтмотивы). Так, например, в рассказе «Кошка под дождем» лейтмотивы дома и дождя, ключевые фразы «мне надоело» / «мне нравится так, как сейчас» и другие превращают банальную семейную сцену с женским капризом в драму отчаяния («бездомности», бессмысленности жизни). Сигналы подтекста создают четкий пунктир эмоционально-психологического состояния героини. Эта четкость связана с программой Хемингуэя – выносить в подтекст только явные моменты, которые будут распознаны читателем.
Другой случай поэтического подтекста – «внехарактерность» – диктует превращение повествователя в лирического героя и, соответственно, лирический способ подачи материала (ритмизация, интонирование фразы, звукопись, метафоризация) и тип коммуникации с читателем (В.В. Набоков).
Субъективизация повествования привела к воссозданию в нем метафорического «образа состояния мира, поэтически обобщенного, эмоционально насыщенного, экспрессивно выраженного» . К принципу метафорического объяснения человека и мира восходят приемы, связанные с введением в текст персонажей-двойников и сновидений.
Прием двойничества в своем психологическом качестве был открыт романтической литературой. Одним из видов двоемирия романтиков стала его психологическая модель: реальность, связанная с «основным “я”» персонажа – реальность, в которой живет «двойник» / «тень». Сновидение , галлюцинация, зеркало, вода стали маркерами границы между этими мирами. Функционально именно сновидение для изображения двойника было более приемлемо, поскольку имело двойную мотивировку (реальную и психологическую). Двойник воспринимался как порождение субъективного мира персонажа, как воплощение его трагической, психологической или психопатологической раздвоенности.
Двойники, по З. Фрейду, – «личности, которые в силу одинаковости своего проявления (внешнего – О.З.) воспринимаются как идентичные», двойничество выступает как «акт идентификации себя с другой личностью, сопровождающийся сомнением в собственном “Я” или подстановкой чужого “Я” на место собственного, удвоение “Я”, разделение “Я”, подмена “Я”» . Таким образом, появление двойника связано с процессом самоопознания (и со страхом, сопровождающим его). Аналог тому находим в литературе, когда двойник отделен от персонажа, воспринимается как «чужой», наделяется вредоносными чертами; отношения между героем и двойником организуются как вражда (1) Иные реализации отношений:
(2) «герой и его двойник могут совмещаться, например, в зеркале. В этом случае двойник способствует утверждению в образе героя самого себя;
(3) двойник может быть глубоко запрятан в «Я» героя и быть с ним почти слитым. Восстановление первоначальной разделенности становится возможным только в критические моменты. Таким образом, двойник наделяется положительными чертами, и отношения с ним организуются как примирение» .
Прием двойничества имеет особую психологическую содержательность. Двойник – зрительный (материализованный) образ «я» персонажа. Зрение, как центральная категория опыта, – вариант познания смотрящим своей личности без языка (не случайно Ж. Лакан говорит о третьей эволюционной фазе в человеческом осознании себя как «стадии зеркала»). Зеркало , водная поверхность в этом контексте важны своей способностью отражать. К примеру, в романах Г. Гессе они маркируют кульминационный момент психологического изменения персонажа (Клейна («Клейн и Вагнер»), Гарри Галлера («Степной волк») и др.). Так, Сиддхартха («Сиддхартха»), вглядываясь в поверхность реки, слышит голоса и различает в водной глади образы своих двойников, а затем вереницу разных человеческих лиц, пока они не сливаются в «целокупность, единство» – наступает просветление (в тексте – «завершение», «совершенство»). В финале лицо мертвого Сиддхартхи становится «волшебным зеркалом», в котором уже его двойник Говинда видит «нирвану и сансару как единое целое» :
«Лицо его друга Сиддхартхи исчезло; вместо него он увидел другие лица, сотни, тысячи, великое множество лиц, сливавшихся в могучем поток … каждое из них сохраняло черты Сиддхартхи. Он видел голову умирающей рыбы… он видел личико едва появившегося на свет младенца …он видел обнаженные мужские и женские тела… он видел окоченевшие трупы… они видел богов, видел Кришну, видел Агни, он видел все эти лики и образы во всей совокупности отношений, которыми они были связаны друг с другом, он видел их помогающими… любящими и ненавидящими друг друга, уничтожающими и вновь рождающими друг друга…и над всем этим он видел… улыбающееся лицо Сиддхартхи…» .
Рассмотрим принцип двойничества в романе «Демиан» Г. Гессе. Вокруг центрального персонажа – Синклера – «вращаются» все другие образы, проясняют его сущность, «катализируют» процесс его становления. Поэтому характерология ужимается до минимальной информативности. Отталкиваясь от этого уровня, автор постепенно наращивает символические оболочки образов.
Синклер переживает дезинтеграцию и стремится от нее избавиться, ищет отражение в другом человеке. На первом этапе «пути внутрь» он вступает в мучительную связь с Францем Кромером (двойник-враг Синклера, «Тень»). В образе Кромера отмечены абрис фигуры, манера говорить и двигаться, доминанта характера, чувства, вызываемые им у Синклера. Однако после таких характерологических подробностей наступает черед их «распыления»: в повествование вводятся сравнения с сатаной, бесом, метонимически-гиперболические трансформации (Кромер видится не целиком, а только его глаза, рука, рот), и, наконец, в результате стирания грани между реальностью внешней и внутренней, в видениях главного героя возникает новый Кромер: «…он делался больше и безобразнее, а его злобный глаз бесовски сверкал» [с. 102]. Мучитель, несмотря на полную свою осязаемость (разнообразные манифестации власти), начинает восприниматься Синклером как сила внутри его, часть его души. С этого момента образ Кромера (символ темного мира, лжи, скверны, страха) исчезает из поля зрения.
Подобное вырастание в символ претерпевает и образ Демиана (двойника-друга). Его появление связано со вторым этапом развития Синклера. Этот образ состоит из нескольких слоев: Демиан – гимназист, сновидческий образ, часть души Синклера («голос, который мог изойти только от меня самого» ). Амбивалентность задается сначала внешностью, затем чувствами, которые он вызывает у Синклера. Новые измерения образа возникают в сцене медитации, фрагментах-воспоминаниях о его «странном» лице, мужском и женском одновременно, юном и зрелом и в то же время «вневременном», принадлежащем «эфиру» между жизнью и смертью. Мерцающий образ двойника убеждает Синклера в несостоятельности прежнего проекта своего «я». Дальнейшее символическое расширение становится возможным благодаря выходу повествователя за пределы реального пространства, транспонированию последнего в «магические», полумистические координаты. Вторая стадия «пути внутрь» увенчивается интеграцией – в оживающем портрете черты Демиана и Синклера сливаются.
Таким образом, представление о душе человека как «хаосе форм и состояний» воссоздается Г. Гессе не посредством фиксации психологических импульсов, мыслей и ассоциаций, как у Джойса. Система неопсихологизма Г. Гессе связана с особым статусом персонажей-двойников (и шире – с психологической природой двойничества):
1. Гессе «овеществляет» сложную, динамичную структуру личности, представляет ее в зрительных образах – символико-мифологических фигурах – психологических двойниках персонажа;
2. Их появление связано с «поворотными пунктами» сюжета – этапами внутренней эволюции центрального героя. Как и в исповеди, религиозной (пиетистской) биографии, «поворотные пункты» в романе Г. Гессе – «моменты просветления, ведущего к окончательному обращению героя» ;
3. Двойники – части души героя, их надо опознать и символически принять в себя (интегрировать).
Неопсихологическое двойничество – новаторский вариант архаической модели персонажа – эпического двойничества. Двойственные образы, по мнению Р. Лахманн, вышли из «антропологического мифа о человеке как двойственном существе». Таким образом, мифологизм и неопсихологизм (и внехарактерный персонаж) обнаруживают свою тесную связь в литературе ХХ в.
Показательные для литературы ХХ в. приемы и способы психологического изображения более сложны, нежели исторически им предшествовавшие, и обусловливают их анализ в рамках нетрадиционных методологий.
Вопросы и задания
- Рассмотрите таблицу «Средства раскрытия внутреннего мира персонажей» Виды Гудонене. Объясните и оцените степень логичности, полноты ее классификации. Предложите свою версию классификации приемов психологического письма.
- Рассмотрите приемы и средства психологического анализа в работах Л.Я. Гинзбург, А.Б. Есина, И.В. Страхова, справочно-энциклопедических изданиях. Включите основные понятия в свой словарь.
- Подберите иллюстративный материал для каждого из приемов и способов психологической репрезентации, которые помещены в словарь.
- Самостоятельно изучите литературу по теме «Особенности психологизма в лирике и драме» (Л.Я. Гинзбург, И.В. Козлик, В.Е. Хализев).
Страхов, И.В. Психологический анализ в литературном творчестве: пособ. для студ. / В 5 ч. / И.В.Страхов. – Саратов: Изд. Сарат. ун-та, 1973–1976.
Гинзбург, Л.Я. О психологической прозе / Л.Я.Гинзбург. – М.: INTRADA, 1999. – 415 с.
Гудонене, В. Искусство психологического повествования (от Тургенева к Бунину) / В.Гудонене. – Вильнюс: Изд. Вильн. гос. ун-та, 1998. – С. 8–119.
Есин, А.Б. Психологизм русской классической литературы: Кн. для учителя / А.Б.Есин. – М.: Просвещение, 1988. – С. 51–64.
Хализев, В.Е. Драма как род литературы (поэтика, генезис, функционирование) / В.Е.Хализев. – М.: Изд. Моск. ун-та, 1986. – С. 83–100.
Козлик, И.В. В поэтическом мире Ф.И. Тютчева / Отв. ред. член-корреспондент НАН Украины Н.Е.Крутикова / И.В.Козлик. – Ивано-Франковск: Плай; Коломыя: ВіК, 1997. – 156 с.
Страхов, И.В. Психологический анализ в литературном творчестве: пособ. для студ. / В 5 ч. / И.В.Страхов. – Саратов: Изд. Сарат. ун-та, 1973. – Ч.1. – С. 4.
Есин, А.Б. Психологизм русской классической литературы: Кн. для учителя / А.Б.Есин. – М.: Просвещение, 1988. – С. 13.
Гудонене, В. Искусство психологического повествования (от Тургенева к Бунину) / В.Гудонене. – Вильнюс: Изд. Вильн. гос. ун-та, 1998. – С. 12.
Психологический анализ в литературном произведении: Метод. материалы для студ.: В 2 ч. – Минск: Минск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького, 1991; Страхов, И.В. Психологический анализ в литературном творчестве: пособ. для студ. / В 5 ч. / И.В.Страхов. – Саратов: Изд. Сарат. ун-та, 1973–1976;
Карельский, А.В. От героя к человеку: два века западноевропейской литературы / А.В.Карельский. – М.: Сов. писатель, 1990. – С. 165–180.
Разграничение точки зрения и повествовательных инстанций (план точки зрения), рассматриваемых в нарратологии (Ж. Женнет, Б.А. Успенский, В. Шмид) дает возможность выявить в прозаических текстах несовпадения, в том числе психологические, перцептивные, позиций автора и персонажа.
Гениева, Е.Ю. Джеймс Джойс / Е.Ю.Гениева // Дублинцы. Портрет художника в юности / Д.Джойс. – М.: Прогресс, 1982. – С. 36.
Понятие «психологизм в художественной литературе» было детально изучено А.Б. Есиным. Рассмотрим основные положения его концепции психологизма в литературе. В литературоведении «психологизм» употребляется в широком и узком смысле. В широком смысле под психологизмом подразумевается всеобщее свойство искусства воспроизводить человеческую жизнь, человеческие характеры, социальные и психологические типы. В узком смысле под психологизмом понимается свойство, характерное не для всей литературы, а лишь для определенной ее части. Писатели-психологи изображают внутренний мир человека особенно ярко и живо, подробно, достигая особенной глубины в его художественном освоении. Мы будем говорить о психологизме в узком смысле. Сразу же оговоримся, что отсутствие в произведении психологизма в этом узком смысле не недостаток и не достоинство, а объективное свойство. Просто в литературе существуют психологический и непсихологический способы художественного освоения реальности, и они равноценны с эстетической точки зрения.
Психологизм – это достаточно полное, подробное и глубокое изображение чувств, мыслей и переживаний литературного персонажа с помощью специфических средств художественной литературы. Это такой принцип организации элементов художественной формы, при которой изобразительные средства направлены в основном на раскрытие душевной жизни человека в ее многообразных проявлениях.
Как любое явление культуры, психологизм не остается неизменным во все века, его формы исторически подвижны. Более того, психологизм существовал в литературе не с первых дней ее жизни – он возник в определенный исторический момент. Внутренний мир человека в литературе не сразу стал полноценным и самостоятельным объектом изображения. На ранних стадиях культура и литература еще не нуждалась в психологизме, т.к. первоначально объектом литературного изображения становилось то, что прежде всего бросалось в глаза и казалось наиболее важным; видимые, внешние процессы и события, ясные сами по себе и не требующие осмысления и истолкования. Кроме того, ценность совершаемого события была неизмеримо выше, чем ценность переживания по его поводу. В. Кожинов отмечает: «Сказка передает только определенные сочетания фактов, сообщает о самых основных событиях и поступках персонажа, не углубляясь в его особенные внутренние и внешние жесты… Все это в конечном счете объясняется неразвитостью, простотой психического мира индивида, а также отсутствием подлинного интереса к этому объекту» (В. Кожинов. Сюжет, фабула, композиция // Теория литературы: в 3 т. – М., 1964). Нельзя сказать, что литература на этой стадии вовсе не касалась чувств, переживаний. Они изображались постольку, поскольку проявлялись во внешних действиях, речах, изменениях в мимике и жестах. Для этого использовались традиционные, повторяющиеся формулы, обозначающие эмоциональное состояние героя. Они указывают на однозначную связь переживания с его внешним выражением. Для обозначения печали в русских сказках и былинах повсеместно употребляется формула «Стал он невесел, буйну голову повесил». Сама суть человеческих переживаний была одномерна – это одно состояние горя, одно состояние радости и т.д. По внешнему выражению и по содержанию эмоции одного персонажа ничем не отличаются от эмоций другого (Приам испытывает точно такое же горе, как и Агамемнон, Добрыня торжествует победу точно так же, как и Вольга).
Итак, в художественной культуре ранних эпох психологизма не просто не было, а не могло быть, и это закономерно. В общественном сознании еще не возник специфический идейный и художественный интерес к человеческой личности, индивидуальности, к ее неповторимой жизненной позиции.
Психологизм в литературе возникает тогда, когда в культуре неповторимая человеческая личность осознается как ценность. Это невозможно в тех условиях, когда ценность человека полностью обусловлена его социальным, общественным, профессиональным положением, а личная точка зрения на мир не принимается в расчет и предполагается как бы даже несуществующей. Потому что идейной и нравственной жизнью общества полностью управляет система безусловных и непогрешимых норм (религия, церковь). Иными словами, психологизма нет в культурах, основанных на принципах авторитарности.
В европейской литературе психологизм возник в эпоху поздней античности (романы Гелиодора «Эфиопика», Лонга «Дафнис и Хлоя»). Рассказ о чувствах и мыслях героев составляет уже необходимую часть повествования, временами персонажи пытаются анализировать свой внутренний мир. Подлинной глубины психологического изображения еще нет: простые душевные состояния, слабая индивидуализация, узкий диапазон чувств (в основном душевные переживания). Основной прием психологизма – внутренняя речь, построенная по законам внешней речи, без учета специфики психологических процессов. Античный психологизм не получил своего развития: в IV–VI века античная культура погибла. Художественной культуре Европы пришлось развиваться как бы заново, начиная с более низкой ступени, чем античность. Культура европейского средневековья была типичной авторитарной культурой, ее идеологической и нравственной основой были жесткие нормы монотеистической религии. Поэтому в литературе этого периода мы практически не встречаем психологизма.
Положение принципиально меняется в эпоху Возрождения, когда активно осваивается внутренний мир человека (Боккаччо, Шекспир). Ценность личности в системе культуры особенно высокой становится с середины XVIII века, остро ставится вопрос о ее индивидуальном самоопределении (Руссо, Ричардсон, Стерн, Гете). Воспроизведение чувств и мыслей героев становится подробным и разветвленным, внутренняя жизнь героев оказывается насыщенной именно нравственно-философскими поисками. Обогащается и техническая сторона психологизма: появляется авторское психологическое повествование, психологическая деталь, композиционные формы снов и видений, психологический пейзаж, внутренний монолог с попытками построить его по законам внутренней речи. С использованием этих форм литературе становятся доступны сложные психологические состояния, появляется возможность анализировать область подсознательного, художественно воплощать сложные душевные противоречия, т.е. сделать первый шаг к художественному освоению «диалектики души».
Однако сентиментальный и романтический психологизм, при всей своей разработанности и даже изощренности, имел и свой предел, связанный с абстрактным, недостаточно историчным пониманием личности. Сентименталисты и романтики мыслили человека вне его многообразных и сложных связей с окружающей действительностью. Подлинного расцвета психологизм достигает в литературе реализма.
Рассмотрим приемы в литературе. Основными психологическими приемами являются:
Система повествовательно-композиционных форм (авторское психологическое повествование, рассказ от первого лица, письма, психологический анализ);
Внутренний монолог;
Психологическая деталь;
Психологический портрет;
Психологический пейзаж;
Сны и видения;
Персонажи-двойники;
Умолчание.
Система повествовательно-композиционных форм. К таким формам относятся авторское психологическое повествование, психологический анализ, рассказ от первого лица и письма.
Авторское психологическое повествование – это повествование от третьего лица, которое ведется «нейтральным», «посторонним» рассказчиком. Эта форма повествования, которая позволяет автору без всяких ограничений вводить читателя во внутренний мир персонажа и показывать его наиболее подробно и глубоко. Для автора нет тайн в душе героя – он знает о нем все, может проследить детально внутренние процессы, прокомментировать самоанализ героя, рассказать о тех душевных движениях, которые сам герой не может заметить или в которых не хочет себе признаться.
«Он задыхался; все тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая, страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей…» («Отцы и дети» Тургенева).
Одновременно повествователь может психологически интерпретировать внешнее поведение героя, его мимику и пластику. Повествование от третьего лица дает небывалые возможности для включение в произведение самых разных форм психологического изображения: внутренних монологов, публичных исповедей, отрывков из дневников, письма, сны, видения и т.п. Такая форма повествования дает возможность изобразить психологически многих героев, что при любом другом способе повествования сделать практически невозможно. Рассказ от первого лица или роман в письмах, построенный как имитация интимного документа, дают гораздо меньше возможностей разнообразить психологическое изображение, делать его более глубоким и всеохватывающим.
Форма повествования от третьего лица не сразу стала использоваться в литературе для воспроизведения внутреннего мира человека. Первоначально существовал как бы некий запрет на вторжение в интимный мир чужой личности, даже во внутренний мир выдуманного самим автором персонажа. Возможно, литература не сразу освоила и закрепила эту художественную условность – способность автора читать в душах своих героев так же легко, как в своей собственной. Не существовало еще задачи для автора изобразить в полном смысле чужое сознание.
Вплоть до конца XVIII в. для психологического изображения использовались по большей части неавторские субъектные формы повествования: письма и записки путешественника («Опасные связи» Лакло, «Памела» Ричардсона, «Новая Элоиза» Руссо, «Письма русского путешественника» Карамзина, «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева) и рассказ от первого лица («Сентиментальное путешествие» Стерна, «Исповедь» Руссо). Это так называемые неавторские субъектные формы повествования. Эти формы позволяли наиболее естественно сообщать о внутреннем состоянии героев, сочетать правдоподобие с достаточной полнотой и глубиной раскрытия внутреннего мира (человек сам говорит о своих мыслях и переживаниях – ситуация, вполне возможная в реальной жизни).
С точки зрения психологизма повествование от первого лица сохраняет два ограничения: невозможность одинаково полно и глубоко показать внутренний мир многих героев и однообразие психологического изображения. Даже внутренний монолог не вписывается в повествование от первого лица, ибо настоящий внутренний монолог – это когда автор «подслушивает» мысли героя во всей их естественности, непреднамеренности и необработанности, а рассказ от первого лица предполагает известный самоконтроль, самоотчет.
Психологический анализ обобщает картину внутреннего мира, выделяет в ней главное. Герой знает про себя меньше, чем повествователь, не умеет так четко и точно выразить сцепление ощущений и мыслей. Основная функция психологического анализа – это анализ достаточно сложных психологических состояний. В ином произведении переживание может быть обозначено суммарно. И это характерно для непсихологического письма, которое не следует путать с психологическим анализом.
Вот, например, изображение нравственных сдвигов в сознании Пьера Безухова, которые произошли во время плена. «Он получил то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде. Он долго в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим собою… он искал этого в филантропии, в масонстве, в рассеянии светской жизни, в вине, в геройском подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе; он искал этого путем мысли, – и все эти искания и попытки обманули его. И он, сам не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим собою только через ужас смерти, через лишения и через то, что он понял в Каратаеве».
Внутренний монолог героя передает мысли и эмоциональную сферу. В произведении чаще всего представлена внешняя речь персонажей, но существует и внутренняя в форме внутреннего монолога. Это как бы подслушанные автором мысли и переживания. Выделяются такие разновидности внутреннего монолога, как рефлектированная внутренняя речь (психологический самоанализ) и поток сознания. «Поток сознания» создает иллюзию абсолютно хаотичного, неупорядоченного движения мыслей и переживаний. Первооткрывателем в мировой литературе этой разновидности внутреннего монолога был Л. Толстой (мысли Анны Карениной по пути на вокзал до самоубийства). Активно поток сознания стал использоваться только в литературе XX века.
Психологическая деталь. При непсихологическом принципе письма внешние детали совершенно самостоятельны, они непосредственно воплощают особенности данного художественного содержания. В поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» картины быта даны в воспоминаниях Савелия и Матрены. Процесс воспоминания – это психологическое состояние, и у писателя-психолога оно раскрывается всегда именно как таковое – подробно и с присущими ему закономерностями. У Некрасова же совсем по-другому: в поэме эти фрагменты психологичны только по форме (воспоминания), по сути перед нами ряд внешних картин, почти никак не соотнесенных с процессами внутреннего мира.
Психологизм же, наоборот, заставляет внешние детали работать на изображение внутреннего мира. Внешние детали сопровождают и обрамляют психологические процессы. Предметы и события входят в поток размышлений героев, стимулируют мысль, воспринимаются и эмоционально переживаются. Один из ярких примеров – старый дуб, о котором думает Андрей Болконский в разные периоды календарного времени и своей жизни. Дуб становится психологической деталью только тогда, когда он является впечатлением князя Андрея. Психологическими деталями могут быть не только предметы внешнего мира, но и события, поступки, внешняя речь. Психологическая деталь мотивирует внутреннее состояние героя, формирует его настроение, влияет на особенности мышления.
К внешним психологическим деталям можно отнести психологический портрет и пейзаж.
Всякий портрет характеристичен, но не всякий психологичен. Необходимо отличать собственно психологический портрет от других разновидностей портретного описания. В портретах чиновников и помещиков в «Мертвых душах» Гоголя ничего от психологизма нет. Эти портретные описания косвенно указывают на устойчивые, постоянные свойства характера, но не дают представления о внутреннем мире, о чувствах и переживаниях героя в данный момент, в портрете проявлены устойчивые черты личности, не зависящие от смены психологических состояний. Портрет же Печорина в лермонтовском романе можно назвать психологическим: «я заметил, что он не размахивал руками – верный признак некоторой скрытности характера»; глаза его не смеялись, когда он смеялся: «это признак – или злого нрава, или глубокой постоянной грусти» и т.д.
Пейзаж в психологическом повествовании косвенно воссоздает движение душевной жизни персонажа, пейзаж становится его впечатлением. В русской прозе XIX века признанным мастером психологического пейзажа является И.С. Тургенев, Самые тонкие и поэтические внутренние состояния передаются именно через описание картин природы. В этих описаниях создается определенное настроение, которое воспринимается читателем как настроение персонажа.
Тургенев в использовании пейзажа для целей психологического изображения достиг высочайшего мастерства. Самые тонкие и поэтические внутренние состояния передаются Тургеневым именно через описание картин природы. В этих описаниях создается определенное настроение, которое воспринимается читателем как настроение персонажа.
«Так размышлял Аркадий… а пока он размышлял, весна брала свое. Все кругом золотисто зеленело, все широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием теплого ветерка, все – деревья, кусты и травы; повсюду нескончаемыми, звонкими струйками заливались жаворонки; чибисы то кричали, виясь над низменными лугами, то молча перебегали по кочкам… Аркадий глядел, глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали его размышления… Он сбросил с себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его обнял».
Сны и видения. Такие сюжетные формы, как сны, видения, галлюцинации, могут использоваться в литературе с самыми различными целями. Первоначальная их функция – это введение в повествование фантастических мотивов (сны героев древнегреческого эпоса, вещие сны в фольклоре). В целом формы снов и видений здесь нужны только как сюжетные эпизоды, влияющие на ход событий, предвосхищающие их, они связаны с другими эпизодами, но не с другими формами изображения мыслей и переживаний. В системе же психологического письма эти традиционные формы имеют другую функцию, вследствие чего они и организованы по-другому. Бессознательные и полубессознательные формы внутренней жизни человека начинают рассматриваться и изображаться именно как психологические состояния. Эти психологические фрагменты повествования начинают соотноситься уже не с эпизодами внешнего, сюжетного действия, а с другими психологическими состояниями героя. Сон, например, мотивируется не предшествующими событиями сюжета, а предшествующим эмоциональным состоянием героя. Почему Телемак в «Одиссее» видит во сне Афину, повелевающую ему вернуться на Итаку? Потому что предшествующие события сделали возможным и необходимым его появление там. А почему Дмитрий Карамазов видит во сне плачущее дитя? Потому что он постоянно ищет свою нравственную «правду», мучительно пытается сформулировать «идею мира», и она является ему во сне, как Менделееву его таблица элементов.
Персонажи-двойники. Психологизм меняет функцию персонажей-двойников. В системе непсихологического стиля они были нужны для сюжета, для развития внешнего действия. Так, появление своеобразного двойника майора Ковалева в гоголевском «Носе» – произведении нравописательном по проблематике и непсихологичном по стилю – составляет основную пружину сюжетного действия. Иначе используются двойники в повествовании психологическом. Двойник-черт Ивана Карамазова уже никак не связан с сюжетным действием. Он используется исключительно как форма психологического изображения и анализа крайне противоречивого сознания Ивана, крайней напряженности его идейно-нравственных исканий. Черт существует только в сознании Ивана, он появляется при обострении душевной болезни героя и исчезает при появлении Алеши. Черт наделен собственной идейно-нравственной позицией, своим образом мышления. Вследствие чего между Иваном и ним возможен диалог, причем не бытовой, а на уровне философской и нравственной проблематики. Черт – воплощение какой-то стороны сознания Ивана, их внутренний диалог – это его внутренний спор с самим собой.
Прием умолчания. Этот прием появился в литературе второй половины XIX века, когда психологизм стал уже вполне привычным для читателя, который начал искать в произведении не внешнюю сюжетную занимательность, а изображение сложных душевных состояний. Писатель умалчивает о процессах внутренней жизни и эмоциональном состоянии героя, заставляя читателя самого производить психологический анализ. На письме умолчание обычно обозначается многоточием.
«С минуту они смотрели друг на друга молча. Разумихин всю жизнь помнил эту минуту. Горевший и пристальный взгляд Раскольникова как будто усиливался с каждым мгновением, проницал в его душу, в сознание. Вдруг Разумихин вздрогнул. Что-то странное как будто прошло между ними… Какая-то идея проскользнула, как будто намек; что-то ужасное, безобразное и вдруг понятное с обеих сторон… Разумихин побледнел как мертвец». Достоевский не договаривает, умалчивает о самом главном – что «произошло между ними»: то, что внезапно Разумихин понял, что Раскольников убийца, и Раскольников понял, что Разумихин это понял.
Психологизм - это способ (метод) изображения душевной жизни персонажа в произведении; воссоздание и изображение в художественном произведении внутренней жизни человека. В журналистике психологизм - это метод осмысления личности в соответствии с «алгоритмами» науки и одновременно эстетический принцип изображения характера, предполагающий использование системы художественных средств.
НУЖНО ПОМНИТЬ:
Чтобы прикоснуться к тонкой душевной организации личности, журналист должен разобраться в субъективном мире героя , понять его душевное состояние, заглянуть в его чувственно-эмоциональную сферу. Только в этом случае удается выявить духовные истоки поведения конкретной личности.
Чтобы написать полноценный очерк , журналисту необходимо настроиться на «волну» эмоций и мыслей своего героя . Подобная настроенность побуждает особую тональность письма: лиризм и исповедальность. В этом смысле очерк – один из самых интимнейших жанров публицистики.Впрочем, полное и объемное раскрытие внутреннего мира человека, как, например, это делается в литературном произведении, в очерке невозможно.
Процесс самораскрытия, самоанализа героя может быть описан в очерке через монолог или диалог . И в том и другом случае мы будем иметь дело с различными проявлениями его самосознания.
А) В монологе герой полностью погружен в себя: видит и слышит только себя; выражает только собственную точку зрения на вещи; его сознание не соприкасается с другими сознаниями. Поэтому мир героя, как правило, предстает перед читателями в одностороннем порядке. Но это процесс внутреннего самораскрытия человека и своеобразный самоанализ, исповедь.Ч тобы полнее передать гамму человеческих чувств , журналисты используют «скрытые» приемы психологической характеристики героя. К ним, как правило, относят авторские реакции, реплики, комментарии и т.п., т.е. все то, что косвенным образом может охарактеризовать внутреннее психологическое состояние человека. Для этого используются и внешние проявления героя произведения.
Б) Иначе обстоят дела в диалоге . В процессе диалога субъекты общения не только делятся полезной информацией, но и могут рассуждать, спорить, дискутировать по поводу определенного предмета обсуждения, тем самым выявляя не только особенности своего мышления, но и взгляды, представления, идеи и т.д. В диалоге и автор, и герой произведения выступают в качестве самостоятельных субъектов общения. Они вольны в выражении своих мнений, точек зрения и оценок. Они могут занимать различные позиции по тем или иным вопросам, свободно проявлять свои мировоззренческие взгляды. Кроме этого, автор может воссоздать в произведении ту социально-психологическую атмосферу, которая возникла в ходе диалога, тем самым добавляя новые штрихи к психологической характеристике героя очерка.
Одним из способов проникновения во внутренний мир личности является анализ мотивационной сферы . В данном случае изучаются различные качества личности; степень осознания человеком собственных поступков; уровень психологической зрелости личности; динамика мотивационной структуры личности в зависимости от обстоятельств, ситуации и временного состояния психики; реакция на социально обязательные, декларируемые и пропагандируемые цели, ценности, нормы поведения, образа жизни и т.д. Анализ мотивационной сферы соотносят с идеалами (идеал – это доминирующий образ желаемого), установками, убеждениями, ценностями, интересами и желаниями личности. Анализируя мотивы поведения личности, важно выявить не только доминирующие мотивы, соотнесенные, например, с целями человеческой деятельности, но и скрытые, которые обнаруживаются в условиях экстремума.
Очеркист, анализируя личность с точки зрения ее мировоззренческих позиций, может проследить этапы формирования человеческих убеждений, описать те трансформации, которые происходят в сознании индивида при выборе той или иной идеи, наконец, показать те внешние воздействия, которые играют определяющую роль в идейной позиции личности.
В переводе с греческого «характер» – это «чеканка», «примета». В процессе жизни человек приобретает различные характерологические черты, которые становятся его отличительными свойствами. В очерковом произведении характер человеческой личности может быть представлен во всей многогранности. Достигается это не только за счет выделения каких-то отдельных черт или сторон характера, как это, например, делается в науке, а за счет показа человека во всех его внутренних и внешних взаимосвязях с социальной средой. От анализа отдельных человеческих поступков или действий журналист может подойти к их синтезу в характере личности.
Различают три основные формы психологического изображения , к которым сводятся все конкретные приемы воспроизведения внутреннего мира литературных героев:
- прямую (открытый психологизм ) - передаёт внутреннюю жизнь персонажа «изнутри» с помощью психологического самоанализа героя (вспомним Печорина, подвергающего анализу мельчайшие движения своей души). Средства открытого психологизма - внутренний монолог, диалог, письма, исповедь, дневники, сны, видения, несобственно-прямая речь, «поток сознания» как предельная форма внутреннего монолога, «диалектика души».
- косвенную (скрытый психологизм ) - направлен на изображение внутреннего мира героя «извне», через психологический анализ. Средства скрытого психологизма - портрет, пейзаж, интерьер, комментарий, умолчание, художественная деталь.
- суммарно-обозначающую (чувства названы, но не показаны ).
Психологизм присущ, как правило, крупным журналистским произведениям. Его стилистические особенности совпадают во многом с особенностями публицистики в целом: стремление к образности, выразительности; поиск новых языковых средств; открытое выражение авторской позиции; огромная роль ключевых слов, характерных для определённой эпохи или идейного направления; широкое использование устоявшихся речевых оборотов.
Однако психологизм присутствует не только в языке и стиле произведения. Последние десятилетия СМИ-продукция, изготовленная без использования высоких технологий, не вызывает интереса у массового читателя – потребителя. Формы психологизма изменились . О состоянии героя можно сказать жестом, фотографией, музыкальным сопровождением, графикой и т.д. Благодаря высококачественным слайдам, фотографиям и другим формам подачи материала, происходит воздействие на читателя на невербальном уровне. Одна фотография в современном очерковом материале массового журнала может сказать о герое больше, показать его внутренний мир и внутренние переживания ярче, чем это сделает журналист на вербальном уровне.
Большую роль в процессе восприятия и ощущения играет узнавание , что тоже используется в психологизме. Восприятие обладает свойством избирательности, то есть легче и быстрее воспринимается то, что знакомо или даже близко. Характерной его особенностью является константность. Так, например, выражение «ворота Арктики» читатель соотносит с крайним севером.
Принцип психологизма позволяет не только раскрыть внутренний мира героя, дать психологические или жизненные советы, но и преподнести наглядные уроки нравственности .