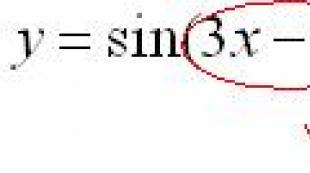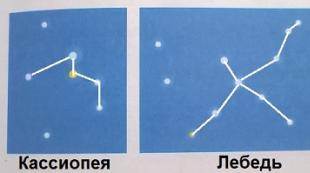Литературное творчество и разоблачительная деятельность. Джордж Оруэлл: история жизни и творчества Нужна помощь по изучению какой-либы темы
Рассказ Джека Лондона «Любовь к жизни» произвел на меня сильное впечатление. От первой до последней строчки находишься в напряжении, следишь за судьбой героя, затаив дыхание. Переживаешь и веришь, что он останется жив.
В начале рассказа перед нами два товарища, скитающихся по Аляске в поисках золота. Они измучены, голодны, двигают-ся из последних сил. Кажется очевидным, что выжить в таких трудных условиях можно, если есть взаимоподдержка, взаимо-выручка. Но Билл оказывается плохим другом: он бросает товарища после того, как тот подвернул ногу, переходя каме-нистый ручей. Когда главный герой остался один среди без-людной пустыни, с травмированной ногой, его охватило отчая-ние. Но он не мог поверить, что Билл окончательно бросил его, ведь он никогда не поступил бы так с Биллом. Он решил, что Билл ждет его возле тайника, где они спрятали совместно до-бытое золото, запасы еды, патроны. И эта надежда помогает ему идти, превозмогая страшную боль в ноге, голод, холод и страх Одиночества.
Но каково же было разочарование героя, когда он уви-дел, что тайник пуст. Билл предал его второй раз, забрав все припасы и обрекая его на верную смерть. И тогда чело-век решил, что дойдет во что бы то ни стало, что выживет, несмотря на предательство Билла. Герой собирает в кулак всю волю и мужество и борется за свою жизнь. Он пытает-ся голыми руками ловить куропаток, ест корни растений, защищается от голодных волков и ползет, ползет, ползет, когда уже не может идти, обдирая до крови колени. По пути он находит тело Билла, которого загрызли волки. Пре-дательство не помогло тому спастись. Рядом лежит мешо-чек с золотом, которое жадный Билл не бросил до последне-го момента.
А главный герой даже не думает забрать золото. Оно те-перь не имеет для него никакого значения. Человек понимает, что дороже всего жизнь. Материал с сайта
А путь его становится все труднее и опаснее. У него появ-ляется спутник — голодный и больной волк. Начинается вол-нующий поединок между измученным и ослабевшим челове-ком и волком. Каждый из них понимает, что выживет только в том случае, если убьет другого. Теперь человек все время начеку, он лишен отдыха и сна. Волк караулит его. Стоит че-ловеку на минуту уснуть, он чувствует на себе волчьи зубы. Но герой выходит победителем из этого испытания и в конце кон-цов добирается до людей.
Я очень переживала, когда читала, как человек из послед-них сил несколько дней ползет к кораблю. Мне казалось, что люди не заметят его. Но все закончилось благополучно. Герой был спасен.
Я думаю, что выжить человеку помогли его мужество, упор-ство, огромная сила воли и любовь к жизни. Этот рассказ по-могает понять, что даже в самой опасной ситуации нельзя от-чаиваться, а нужно верить в хорошее, собраться с силами и бороться за жизнь.
Рец.:
Gordon Bowker. George Orwell. Little, Brown, 2003;
D.J. Taylor. Orwell: The Life. Chatto, 2003;
Scott Lucas. Orwell: Life and Times. Haus, 2003.
C ын верного слуги короны, уроженца процветающего юга Англии, он блистал в средней школе, но позже потерпел полное фиаско на академическом поприще. Страстный сторонник левых взглядов, он, тем не менее, сохранил кое-какие атрибуты воспитанника частной школы, в том числе аристократическое произношение и толпу друзей-мажоров. Он умудрялся сочетать культурную «английскость» с политическим космополитизмом, ненавидел культы личности в политике, однако при этом тщательно взращивал свой собственный публичный образ. С высоты своего положения, чувствуя себя в относительной безопасности, он периодически совершал рейды в мир «униженных и оскорблённых», отчасти для того, чтобы не терять политического нюха, отчасти потому, что это давало ему ценный журналистский материал. Блестящий и острый ум - но не интеллектуал в прямом смысле слова - с налётом раздражительности и склочности внепартийного левака и своенравного англичанина: он умел задирать своих собратьев-социалистов ничуть не хуже, чем оскорблять их оппозицию. С годами он становился всё более упрямым, пока в своей ненависти к мрачным авторитарным государствам не пришёл, как рассудили многие, к предательству своих левых идеалов.
Именно таким будут помнить Кристофера Хитченса. Сходство с Джорджем Оруэллом, о котором Хитченс отзывался весьма восторженно, немалое, однако есть некоторые ключевые различия. Оруэлл был своего рода литературным пролетарием, который провёл большую часть своей жизни в нужде, - его писательский труд начал приносить нормальные деньги только когда он уже стоял одной ногой в могиле. У Хитченса всё обстояло по-другому, хотя кто знает, вдруг гонорары в "Vanity Fair" гораздо меньше, чем мы думаем? Нищету Оруэлла отчасти спровоцировал он сам: в то время как некоторые его однокашники по Итону (Сирил Коннолли, Гарольд Актон) процветали на литературном поприще, Оруэлл предпочитал вкалывать на парижских кухнях, даже когда харкал кровью, спать в ночлежках, выпрашивая несчастные десять шиллингов у своих ошеломлённых родителей, надрываться носильщиком на Биллингсгейтском рынке и раздумывать, как бы попасть в тюрьму на Рождество. Подобно Брехту, он всегда выглядел так, словно брился в последний раз дня три назад - особенности физиологии.

Роскошь была ему абсолютно чужда, даже стряпня, которой кормили в столовых «Би-би-си», не вызывала у него отвращения. Трудно представить себе этого истощённого, мрачного, странно одетого человека, отдалённо напоминающего актёра Стэна Лорела, потягивающим коктейль на какой-нибудь манхэттенской вечеринке - для Хитченса же это дело привычное. Оруэлла, в отличие от современных литературных умников, которые кичатся своими личинами откровенных и непредсказуемых нонконформистов, при этом поддерживая все нужные социальные контакты, никогда не интересовал успех. Лейтмотивом прозы Оруэлла, его «коньком», было падение. Именно падение означало для него истинную реальность, как и для Беккета. Все главные герои его книг подавлены и повержены; и если Оруэлла и можно обвинить в чрезмерном пессимизме, этот взгляд на мир он вынес не из Итона.
Кроме того, как утверждает сам Хитченс (это ирония судьбы, учитывая его недавние смены политической ориентации), Оруэлл действительно остался верен левым, несмотря на инстинктивно отвращение к некоторым их нечистым делам. Он опасался, что две его великие сатиры на сталинизм - «Скотный Двор» и «1984», - из-за которых некоторые социалисты записали его в ренегаты, станут оружием для тори и ястребов холодной войны - и опасался не зря. При этом, отмечает тот же Хитченс, Оруэлл мрачно предсказывал приближение холодной войны ещё тогда, когда большинство тори пели осанну доблестному советскому союзнику. И если «1984» - памфлет против социализма, весьма странно, что накануне его публикации автор призывал к объединению социалистических европейских государств. В любом случае, то, что сталинские палачи называли себя приверженцами социализма, не повод отрекаться от социализма, как визиты Майкла Портилло в Марокко не повод невзлюбить Марокко. С точки зрения Оруэлла именно левые сталинисты предали простой народ, а вовсе не демократические социалисты вроде него самого. Со сталинизмом и его гнусными предательствами Оруэлл впервые столкнулся в Испании во времена гражданской войны - с социализмом он по-настоящему познакомился там же. Его отвращение к советской «реальной политике» возникло в Испании, однако там же родилась и его вера в благородство и силу человеческого духа, от которой он не отрекался до конца жизни.
Оруэлл в большинстве случаев был неспособен дать уклончивый ответ на вопрос, как Деррида не может дать прямой. При этом остерегаться нам нужно и тех, кто громогласно настаивает прекратить нести пургу и начать резать правду-матку, и тех, кто полагает, что мир слишком сложен для однозначных суждений. Оруэлл испытывал пуританское чувство вины за своё наслаждение языком (он был поклонником Джеймса Джойса) и стремился его подавлять в интересах политической пользы. Такой подход мало полезен при создании крупной прозы. Вымысел для пуританской нации - проблема, несмотря на то, что английская литература пестрит примерами великих романов («Кларисса», «Тристрам Шенди»), которые строятся вокруг трагического или комического в самом искусстве писать. Тем не менее, Оруэлл со всеми своими стилистическими спазмами сумел сказать правду о подрывной деятельности сталинистов в испанской революции, когда другие изо всех сил пытались это скрыть, и о жертвах сталинских репрессий, когда большинство товарищей сознательно закрывали на них глаза. За это таким писателям, как он и Э.П. Томпсон, вполне можно простить дикие невоздержанные эпитеты.
Превратившись из ученика престижной школы в имперского лакея, Оруэлл почувствовал себя отрезанным от родной страны и всю жизнь пытался восстановить утраченную связь. Он чувствовал себя в Англии эмигрантом, и ему, как эмигрантам в буквальном смысле Уайльду, Джеймсу, Конраду и Т.С. Элиоту приходилось делать над собой усилие, чтобы освоится, от чего настоящий местный всегда избавлен. Как и они, Оруэлл и болезненно воспринимал свою отчуждённость, и был способен взглянуть на неё со стороны. Он знал, что правящий класс в каком-то смысле чувствует себя таким же изгоем, как бродяги и обитатели ночлежек, поэтому землевладелец может испытывать скрытое сочувствие к браконьеру. На службе системе удаётся в той же степени освободиться от её условностей, что и тем, кто на эти условности плевать хотел. Изгоя, принадлежащего правящему классу, нужно было превратить в революционера, и превращению немало способствовал тот парадоксальный факт, что в классовом обществе большинство уже так или иначе отвергнуто.
К этому парадоксу добавляется ещё один. Оруэлл отстаивал то, что на его взгляд являлось общечеловеческими ценностями - однако на самом деле эти ценности маргинальные, а значит, далеко не общечеловеческие. Точнее, это одновременно ценности вечные в духовном смысле и отодвинутые на второй план в смысле политическом. «Моя главная надежда на будущее, - писал Оруэлл, - в том, что простые люди никогда не отступали от своего морального кодекса». При этом его одолевал невысказанный страх, что так случилось лишь потому, что они слишком слабы и пассивны, ещё не подверглись этически чарующему, но парализующему политически влиянию властной системы. Стремление Оруэлла к порядочности ставит его в один ряд с главными английскими моралистами вроде Коббета, Ливиса и Тоуни: на континенте был марксизм, у нас, англичан, - моралисты. До Каталонии единственной связью Оруэлла с Марксом был названный в честь того пудель.
У этой разновидности радикализма есть несомненные сильные стороны. Как в случае Уильямса и Томпсона, она предполагает между классовым настоящим и социалистическим будущим некий переход, а не апокалиптический разрыв. Разрывы, разумеется, неизбежны, однако социализм - это прежде всего распространение ныне существующих ценностей товарищества и солидарности на общество в целом. Этот мотив проходит красной нитью через все произведения Уильямса. Социалистическое будущее - не просто некий туманный утопический идеал, оно уже в каком-то смысле заложено в настоящем, иначе на него не стоит рассчитывать. Оруэлл склонялся именно к этому типу радикализма, который, как ни странно, недалеко ушел от Маркса. У каталонских рабочих он обнаружил солидарность, залог политического будущего, равно как Уильямс увидел в валлийском рабочем классе своего детства зачатки общества будущего, а Томпсон рассмотрел их во взаимопомощи зарождающегося английского рабочего класса.
Впрочем, если политика разрыва испытывает к настоящему недоверие, левое течение этого рода, наоборот, верит в него чересчур сильно. Сам Уильямс периодически признавал, что нельзя распространять существующие моральные ценности на новые социальные группы, не понаблюдав, как они трансформируются в процессе. Есть в социализме эта «преемственная» направленность, полагающая, что он многим обязан бесценному наследию народнических настроений и либерализма среднего класса, без которого любой социалистический порядок окажется мертворождённым. Однако у него есть и модернистское или авангардистское измерение, где предвосхищается изменённый человек будущего, которого не в силах описать современный язык, а Оруэлл, в отличие от Д.Г. Лоренса, революционный авангардизм, как и прочий авангард в искусстве, не особенно жаловал. Ненавистный сталинизм воплощал для него самые худшие проявления обоих миров: консерватизм, косность, реакционность, иерархию и при этом чреватый ужасающими последствиями отказ от либерального наследия.
Книги Гордона Боукера и Д.Дж. Тэйлора появились к столетию со дня рождения их главного героя. Это глубокие, полноценные исследования, написанные хорошим языком. К Оруэллу они благосклонны, но не льстят ему и глаза на его недостатки не закрывают. Впрочем, обе книги страдают типичным для биографий недугом - за деревьями авторы не видят леса. У Тэйлора получилось чуть живее и остроумнее (итонский акцент Оруэлла, по его словам, «немедленно облачал своего обладателя в воображаемые брюки-гольф»), а Боукер чересчур много внимания уделяет увлечению своего персонажа оккультизмом и сверхъестественными явлениями, не говоря уже о бурной сексуальной жизни. Он много копается в психологии, подозревает Оруэлла в садизме, паранойе и самоненавистничестве, что, однако не умаляет его восхищения объектом исследования. При этом оба автора рыли одни и те же архивы и повествование строят примерно одинаково, так что тратить и без того короткую жизнь на оба эти фундаментальных труда, наверное, не стоит. Жаль, не нашлось доброй души, что вовремя свела бы авторов друг с другом.
В отличие от этих двух благосклонно настроенных биографов, Скотт Лукас в своей книге на Оруэлле живого места не оставляет. Оруэлла, конечно, есть за что высечь, и от Лукаса ему крепко достается - за отсутствие политического анализа и конструктивных предложений, за то, что пацифизм во Второй мировой он оскорбительно приравнивает к профашизму, за патрицианскую ностальгию по британской Индии, за абсурдные утверждения, будто «когда придёт время, от революции увильнут в первую очередь те, чьё сердце никогда не трепетало при виде британского флага». Лукас верно показывает, как методично Оруэлл изгоняет из «Дороги на Уиган-Пирс» борющийся рабочий класс, чтобы тот не портил ему полный лицемерия тезис, провозглашающий социализм делом исключительно среднего класса. С гомофобским страхом Оруэлла перед «голубыми левыми», ядовитым женоненавистничеством «1984» и постыдным эпизодом, когда под конец жизни Оруэлл передал властям список, включающий более сотни фамилий участников левого движения, за которыми необходимо приглядывать, биограф разделывается в два счёта и должным образом.
Несмотря на то, что в самом начале Лукас походя расшаркивается перед достижениями Оруэлла и признаёт, что выходили из-под его пера и стоящие вещи, он слишком упивается желчью, чтобы быть рассудительным. В этом в том числе между биографом и персонажем наблюдается явное сходство. Выпады Оруэлла против ширпотребной журналистики, которые должны были бы встретить одобрение у левого Лукаса, осуждаются как проявления ненависти «правого». «Двурушник», намекает нам биограф; кстати, о двурушничестве: когда Оруэлл чистосердечно признаётся, что у него, социалиста из старых итонцев, не всё однозначно с политическими взглядами, он тут же призывается к ответу за них. Бывший бирманский слуга короны обвиняется в том, что «критикует империю, которой ещё недавно преданно служил» - как будто в этой кардинальной смене взглядов есть хоть намёк на лицемерие. Там, где он, по словам Лукаса, «якобы» ратует за независимость Индии, никаких «якобы» нет. Оруэлл высказывается в поддержку войны союзников против фашизма - и тут же клеймится как «милитарист».
Лукас прав, говоря, что моралист из Оруэлла вышел гораздо более весомый, чем обладатель конструктивного политического мышления. Однако странно видеть в нём теоретика марксизма-ленинизма, который должен быть наказан за то, что не справился со своей задачей. Утверждается, что он не любил классовую культуру, но при этом в организованной политической оппозиции участвовать отказывался - возможно, Оруэлл времен «Уиган-Пирс» был именно таким, но позже, во времена членства в Независимой лейбористской партии, уже вряд ли. «Автор “Уиган-Пирс”, - сокрушается Лукас, - не знает ни Маркса, ни Кейнса, ни политической истории». Однако почти сразу же признаёт, что «Оруэллу совсем не обязательно было быть интеллектуалом», чтобы создать значимое произведение», и что в этом случае можно обойтись и «без теории». Он неоднократно вторит Уильямсу, высказавшему занятную мысль, будто для Оруэлла капитализм никогда не был системой, а скорее делом рук отдельных негодяев, как в наивных фантазиях раннего Диккенса.
С испанским периодом тоже не всё гладко. Про его реакцию на отказ «Нью Стейтсман» напечатать эссе о своих испанских впечатлениях биограф пишет, что «он обиделся», приравнивая протест против цензуры левых, наложенной на факты сталинистских мошенничеств, к личным претензиям. В качестве иллюстрации его бешеной ярости приводится фраза, высказанная в ответ на отказ Виктора Голланца издавать книгу «Памяти Каталонии»: «Голланц, несомненно, один из коммунистов-мошенников», хотя Оруэлл сказал чистую правду. Лукас подозрительно легко относится к измене Сталина делу испанской революции и одновременно высказывает ехидное предположение, что приверженцем идеалов троцкизма и анархизма Оруэлл «оставался лишь из принципа», - видимо, чтобы иметь моральное превосходство. В «Памяти Каталонии», видите ли, не затронута «роль религии в жизни испанцев, не описана оптимальная форма государственного устройства, ни слова о роли военных сил» и т.д. и т. п., как будто Оруэлл метил в Хью Томасы, да не дотянул.
В главе под названием «Взлёт и падение “социалиста”» Лукас пытается с устрашающими цитатами в руках доказать, что Оруэлл, которого с самого начала нельзя было причислить к настоящим социалистам, докатился до аполитичного либерализма. Приводятся поздние высказывания разочаровавшегося человека о том, что писатели должны сохранять политическую непорочность, и почему-то подразумевается, что относится это не только к писателям. То, что Оруэлл обладал шаблонным романтическим представлением о писателях, ещё не означает, что он считал политику напрасной тратой времени - даже в годы самого сурового своего пессимизма. Интересно, что Лукас, то и дело повторяющий, что Оруэлл так и не удосужился создать приличной политической программы, приводит цитату, из которой следует, что именно она содержится во «Льве и единороге». После этого, по словам Лукаса, Оруэлл отрёкся от социализма, однако через несколько страниц биограф описывает, как в 1947 Оруэлл отстаивал необходимость создания европейской федерации демократических социалистических государств. При этом абзацем раньше сказано, что Оруэлл переметнулся от социализма к аполитичному направлению либерализма. Сообщив, что Оруэлл «неустанно доказывал, что его книги каждой своей строчкой зовут к демократическому социализму», Лукас заявляет, что «до самой смерти Оруэлл не смог ничего достойно противопоставить пессимизму и страху». Похоже, не один Оруэлл тут постоянно меняет взгляды.
Уистэн Хью Оден (1907-1973) - британский и американский поэт и публицист, в молодости левый социальный критик и радикальный социалист, воевавший, как и Оруэлл, в Испании; с 1940-х начал склоняться к религии и глубокому консерватизму, которых придерживался до конца жизни.
Британский журналист, общественный деятель и политактивист социалистических взглядов; см..html.
Один из «Кембриджской пятёрки», группы британских сотрудников разведки, контрразведки и МИД, работавшей на СССР в 30-40-х. гг.
См. прим..html.
Сторонники «Малой Англии» (little Englanders) - собирательное название британских националистов, считающих, что интересы страны не должны выходить за пределы Великобритании: в имперские времена они выступали за избавление от колоний, позднее - против участия в глобализации, членства в ЕС и т.п.
Американский писатель (1891-1980), прежде всего известный скандальными в своё время произведениями, где превалирует, как у Лоуренса, только гораздо откровеннее, сексуальная тематика.
Тоска по грязи (фр.) - Прим. пер.
Один из «Кембриджской пятёрки», см. прим. 6.
Британский и американский марксистский теоретик, историк, главный редактор и член редколлегии журнала "New Left Review"; см..html.
Литератор и исследователь, деятель английского Просвещения.
Британский историк (1924-1993), один из участников Группы историков Коммунистической партии Великобритании, деятель коммунистического, после входа из компартии в 1956 в связи со вторжением СССР в Венгрию - социалистического движения.
Британский историк и политический деятель, автор обстоятельного труда про Гражданскую войну в Испании, изданного в 1961 и с тех пор многократно издававшегося и переиздававшегося на многих языках.
Спустив курок, я не услышал выстрела и не почувствовал отдачи обычное явление, когда пуля попадает в цель,– зато я услышал дьявольский торжествующий рев, взметнувшийся над толпой. И почти тут же-казалось, пуля не могла столь быстро достигнуть цели – со слоном произошла таинственная жуткая перемена. Он не пошевельнулся, не упал, но изменилась каждая линия его тела. Он вдруг оказался больным, сморщенным, невероятно старым, как будто страшный, хотя и не поваливший наземь удар пули парализовал его. Прошло, казалось, бесконечно много времени – пожалуй, секунд пять,– прежде чем он грузно осел на колени. Изо рта потекла слюна. Слон как-то неимоверно одряхлел. Нетрудно было бы представить, что ему не одна тысяча лет. Я вновь выстрелил в ту же точку. Он не рухнул и после второго выстрела: напротив, с огромным трудом невероятно медленно поднялся и, ослабевший, с безвольно опущенной головой выпрямился на подгибающихся ногах. Я выстрелил в третий раз.
Этот выстрел оказался роковым. Все тело слона содрогнулось от нестерпимой боли, ноги лишились последних остатков сил. Падая, он словно приподнялся: подогнувшиеся под тяжестью тела ноги и устремленный ввысь хобот делали слона похожим на опрокидывающуюся громадную скалу с растущим на вершине деревом.
Он протрубил – в первый и последний раз. А потом повалился брюхом ко мне, с глухим стуком, от которого содрогнулась вся земля, казалось, даже там, где лежал я.
Я встал. Бирманцы мчались по грязи мимо меня. Было ясно, что слону уже никогда не подняться, но он еще жил. Он дышал очень ритмично, шумно, с трудом вбирая воздух; его огромный, подобный холму бок болезненно вздымался и опускался. Рот был широко открыт, и я мог заглянуть далеко в глубину бледно-розовой пасти. Я долго медлил в ожидании смерти животного, но дыхание не ослабевало. В конце концов я выпустил два оставшихся у меня патрона туда, где, по моим представлениям, находилось сердце. Из раны хлынула густая, как красный бархат, кровь, но слон еще жил. Его тело даже не дрогнуло, когда ударили пули; без остановок продолжалось затрудненное дыхание. Он умирал невероятно мучительно и медленно, существуя в каком-то другом, далеком от меня мире, где даже пуля уже бессильна причинить больший вред. Я почувствовал, что должен оборвать этот ужасающий шум. Смотреть на огромного поверженного, не могущего ни шевельнуться, ни умереть зверя, и сознавать, что ты не в состоянии даже прикончить его, было невыносимо. Мне принесли мою малокалиберную винтовку, и я принялся выпускать пулю за пулей в сердце и в горло. Слон вроде бы и не замечал их. Мучительное шумное дыхание проходило все так же ритмично, напоминая работу часового механизма. Наконец, не в силах больше вынести этого, я ушел. Потом я узнал, что прошло полчаса, прежде чем слон умер. Но еще до моего ухода бирманцы стали приносить корзинки и большие бирманские ножи: рассказывали, что к вечеру от туши не осталось почти ничего, кроме скелета.
Убийство слона стало темой бесконечных споров. Хозяин слона бушевал, но ведь это был всего лишь индус, и сделать он, конечно, ничего не мог. К тому же, юридически я был прав, поскольку разбушевавшийся слон, подобно бешеной собаке, должен быть убит, если владелец почему-либо не в состоянии справиться с ним. Среди европейцев мнения разделились. Люди в возрасте сочли мое поведение правильным, молодые говорили, что чертовски глупо стрелять в слона только потому, что тот убил кули – ведь слон куда ценнее любого чертового кули. Сам я был несказанно рад свершившемуся убийству кули – это означало с юридической точки зрения, что я действовал в рамках закона и имел все основания застрелить животное. Я часто задаюсь вопросом, понял ли кто-нибудь, что мною руководило единственное желание – не оказаться посмешищем.
in saecula saeculorum (лат.) – во веки веков.
in terrorem (лат.) – для устрашения.
При первом появлении в лагере долийских эльфов в задании «Природа зверя» Затриан, хранитель клана, расскажет о бедствии, которое постигло его сородичей. В последнее время с завидным постоянством на эльфов в глубине леса стали нападать оборотни. Первоначально проклятие разносил Бешеный Клык, но теперь им можно заразиться от любого оборотня. Симптомы заражения начинают проявляться через несколько дней, после чего жертва превращается в оборотня. Чтобы окончательно избавиться от проклятия, Затриан попросит найти огромного белого волка Бешеного Клыка, убить и принести его сердце. С помощью сердца хранитель сможет снять проклятие. Принятое решение в конфликте между эльфами и оборотнями повлияет на то, кто окажется в роли союзника в финальной битве с архидемоном. А также на развитие событий после игры.
Если убить Бешеного Клыка или уговорить Затриана отказаться от мести, союзниками станут эльфы. Если убить Затриана, союзниками станут оборотни. Уговорить Затриана отказаться от мести можно после разговора с Бешеным Клыком в эльфийских руинах, а затем пригласить хранителя к оборотням и Хозяйке Леса. Правда, для этого надо правильно выстроить диалог и обладать развитыми навыками влияния. Эльфийские руины находятся в восточной части леса Бресилиан, преодолеть который поможет либо отшельник, либо Великий Дуб из западной части леса. В зависимости от сделанного выбора открывается одно из достижений «Убийца» или «Браконьер». Если проклятие с оборотней не будет снято, в на Расколотой горе появится задание «Смена сущности» (типовая история Без компромиссов).
Вещи за убийство Бешеного Клыка в Dragon Age: Origins:
- Амулет «Сердце Бешеного Клыка» - +1 к силе и магии, +50 к устойчивости к силам природы.
- Боевой топор «Клюв грифона» - сила: 34; урон: 15,00; +4 к урону против порождений тьмы, 2 ячейки для рун.
Вещи за убийство Затриана и клана в Dragon Age: Origins:
- Посох магистра - магия: 32; +1 к восстановлению маны в бою, +5 к магической силе, +10% к урону от духовной магии.
- Кольцо хранителя - +1 к ловкости.
- Кинжал «Дар"Мису Вараторна» - ловкость: 18; урон: 5,20; +2 к пробиванию брони, +6 к атаке, 1 ячейка для рун.
Влияние принятого решения о судьбе эльфов и оборотней на концовку игры Dragon Age: Origins:
- У долийских эльфов дела после осады Денерима шли хорошо. За участие в битве они снискали немалое уважение. Впервые за много лет к бродячему народу в землях людей стали хорошо относиться. Новая хранительница Ланайя стала уважаемой персоной как среди долийцев, так и при ферелденском дворе. Она явила собой глас разума, и к ней с тех пор частенько обращались другие долийские кланы для разрешения споров с людьми. Со временем многие долийские кланы перебрались в новые земли, предоставленные им на Юге близ Остагара. Тем не менее, соседство с людьми оказалось небезоблачным, и лишь стараниями хранительницы Ланайи удалось сохранить надежду на мир в будущем. Что касается оборотней, то, избавившись от проклятия, они остались вместе и взяли себе в память о прошлом родовое имя «Волки». Впоследствии они стали самыми умелыми дрессировщиками во всем Тедасе. Каждый год они собираются вместе и зажигают свечу в память о Хозяйке Леса, которая так их любила.
- Оборотни в Бресилианском лесу какое-то время благоденствовали, обосновавшись на месте лагеря долийцев, и заработали репутацию храбрецов во время осады Денерима. Но это благополучие долго не продлилось. Хозяйка Леса, как ни старалась, не смогла полностью подавить животное начало ни в оборотнях, ни в себе самой. И в конце концов проклятие начало распространяться на окружающие людские поселения. Начали появляться новые оборотни, пока наконец не призвали ферелденскую армию, чтобы покончить с угрозой раз и навсегда. Многих оборотней перебили, но когда солдаты добрались до старого лагеря долийцев, он оказался пуст. Хозяйка Леса вместе со своими последователями исчезла, и с тех пор никто их не видел.
- Затриан оставался хранителем своего клана еще много лет, пока наконец не осознал, что мир меняется слишком быстро, чтобы за ним поспеть. Он беспрестанно враждовал с королевским двором, наращивая напряжение, пока в один прекрасный день не исчез. Долийцы искали его, но тщетно. Было очевидно, что он ушел по собственному желанию и не собирается возвращаться. Со временем многие долийские кланы перебрались в новые земли, предоставленные им на Юге близ Остагара. Тем не менее, соседство с людьми оказалось небезоблачным. Несмотря на все надежды, многие кланы опасаются повторения старого кровопролития. Что касается оборотней, то даже со смертью Бешеного Клыка проклятие не иссякло. Со временем количество вервольфов пополнилось, и они вернулись к своей дикой природе. В итоге в Бресилианский лес было запрещено заходить, но и это не остановило распространение проклятия за его пределы.
Джордж Оруэлл - литературный псевдоним Эрика Артура Блэра. Он родился в маленьком индийском городке Мотихари, в северо-западной части штата Бихар. Впрочем, воспоминания об этом месте были расплывчаты и неточны. Мальчик с детства жил в Англии, учился в Итонском колледже, получил университетское образование.
А вот служба в течение шести лет в полиции Бирмы оставила в его жизни неизгладимый след и насытила ценнейшими наблюдениями, из которых потом вырастут первые произведения будущего писателя: "Дни в Бирме", "Убийство слона". Во времена британского правления англичане-колонисты чувствовали своё превосходство над аборигенами, сохранившими непостижимую для чужестранцев восточную ментальность, и постоянно ощущали потоки плохо скрываемой ненависти к себе от коренного населения.
«Теоретически - и, разумеется, втайне - я был всецело на стороне бирманцев и против их угнетателей, британцев... Однако мне нелегко было разобраться в происходящем. Я был молод, малообразован, и над своими проблемами мне приходилось размышлять в отчаянном одиночестве, на которое обречён каждый англичанин, живущий на Востоке. Я даже не отдавал себе отчёта в том, что Британская империя близится к краху, и ещё меньше понимал, что она гораздо лучше молодых империй, идущих ей на смену».
Оруэллу приходилось видеть заключённых в зловонных клетках тюрем, приговорённых к смерти, наказанных бамбуковыми палками, и ненависть, смешанная с чувством вины, переполняла его и не давала покоя.
Вспоминая реальные случаи, он рассказывает о мотивах поступков человека, оказавшегося на распутье и делающего свой выбор. Герой не хочет убивать разбушевавшегося домашнего слона. Однако собравшаяся огромная толпа следит за происходящим не только из любопытства. Она рассчитывает получить мясо убитого животного. Автор описывает эту драматическую историю с долей изрядной иронии:
«Пройдя весь этот путь с ружьём в руке, преследуемый двухтысячной толпой, я не мог смалодушничать, ничего не сделать - нет, такое немыслимо. Толпа поднимет меня на смех. А ведь вся моя жизнь, вся жизнь любого белого на Востоке представляет собой нескончаемую борьбу с одной целью - не стать посмешищем».
С точки зрения закона, всё было сделано правильно, но среди европейцев не было единодушия: пожилые оправдывали, молодые осуждали действия полицейского. Сам же герой спрашивает себя, догадался ли кто-нибудь, что он убил слона "исключительно ради того, чтобы не выглядеть дураком".
Сложно было и после возвращения в Европу. Оруэллу приходилось бедствовать, соглашаться на любую сколько-нибудь оплачиваемую работу, чтобы не умереть от голода в Париже и Лондоне. Описывая вполне обычную парижскую трущобу, похожую на пятиэтажный муравейник, он делится опытом выживания в "уютном" номере, кишащем клопами:
«Их вереницы, днём маршировавшие под потолком будто на строевых учениях, ночами алчно устремлялись вниз, так что часок-другой поспишь и вскочишь, творя лютые массовые казни. Если клопы слишком уж допекли, жжёшь серу, изгоняя насекомых за переборку, в ответ на что сосед устраивает серное возжигание в своём номере и перегоняет клопов обратно».
Что и говорить! Случайные заработки волей-неволей снабжали молодого неунывающего литератора, не оставлявшего попытки напечатать свои сочинения, массой впечатлений, и каких впечатлений... Особенно примечательна в этом смысле работа в книжной лавке, о ней он расскажет в "Воспоминаниях книготорговца". Продавец букинистического магазина составляет интересную и весьма точную классификацию покупателей.
Вот обаятельный старый джентльмен, роющийся в кожаных фолиантах, или снобы, гоняющиеся за первыми изданиями, или восточные студенты, приценивающиеся к дешёвым хрестоматиям, или растерянные женщины, ищущие подарки ко дню рождения племянников. Немногие из них, по мнению героя, способны отличить хорошую книгу от подделки!
Но больше всего запоминаются смешные просьбы почтенных леди. Одной «нужна книга для инвалида», другая не помнит ни названия, ни автора, ни содержания той книги в красном переплете, которую она читала когда-то в юности. Особенно надоедливы собиратели марок и джентльмены, которые пытаются продать никому не нужные книги или заказывают огромное количество книг, за которыми не приходят. Остроумны замечания автора о книжной коммерции. Чего стоит, например, такая строка из накладной квитанции накануне Рождества: «Две дюжины Иисуса-младенца с кроликами».
«Хотел ли я быть профессиональным продавцом книг? В конечном счёте - несмотря на доброту моего хозяина и счастливые дни, которые я провёл там, - нет... Когда-то я действительно любил книги - любил их вид, их запах, прикосновение к ним, особенно если они были старше полувека. Но с тех пор, как я стал работать в книжном магазине, я перестал покупать книги».
Благополучная жизнь в деревне с молодой женой скоро надоедает, и Оруэлл отправляется в объятую пламенем гражданской войны Испанию.
«Многое из того, что я видел, было мне непонятно и кое в чём даже не нравилось, но я сразу же понял, что за это стоит бороться», - такой вывод сделает он в книге "В честь Каталонии". Сражаясь на арагонском фронте, получит тяжёлое ранение: у него серьёзно повреждены голосовые связки, а правая рука парализована.
«Моя рана была в некотором смысле достопримечательностью. Разные врачи осматривали меня, цокая от удивления языком... Все, с кем я в то время имел дело – врачи, сестры, практиканты, соседи по палате, – неизменно заверяли меня, что человек, получивший ранение в шею и выживший, – счастливчик. Лично я не мог отделаться от мысли, что настоящий счастливчик вообще не попал бы под пулю».
Война оставила у Оруэлла скверные воспоминания: скука, жара, холод, грязь, лишения, плохое снабжение, бездействие, редкие минуты опасности. Но переворот в мировоззрении не заставил себя ждать. Не имея ясного представления о различиях между левыми партиями, он увидел в Испании первые ростки тоталитаризма и понял неизбежность поражения республиканцев, из-за идейной нетерпимости преследующих своих единомышленников.
Возвратившись в Англию, Оруэлл занимается огородничеством и литературным творчеством, умело сочетая эти два занятия без ущерба для качества выпускаемого "продукта". Среди его работ рассказы, эссе, статьи, повесть-сказка "Ферма животных", роман-антиутопия "1984".
Писатель использует форму аллегорической сказки, чтобы предостеречь человечество от всяких политических экспериментов, основанных на единомыслии и насилии, беззаконии и приспособленчестве, всеобщей подозрительности и недоверии, беспринципности и невежестве.
«Я пишу небольшую сатирическую штучку, но она настолько неблагонадежна политически, что я не уверен наперёд, что кто-либо напечатает её», - переживал Оруэлл о судьбе своей притчи «Animal Farm». К счастью, сомнения оказались напрасными! Повесть неоднократно переиздавалась, имеет несколько вариантов русского перевода. Насколько постарались переводчики, видно даже по названиям:
1. Мария Кригер и Глеб Струве, 1950. Скотский хутор: Сказка
2. Телесин Юлиус, 1982. Скотский хутор: Сказка
3. Переводчик неизвестен. Звероферма / Самиздат, 80-е годы
4. Илан Полоцк, 1988. Скотный двор
5. Владимир Прибыловский, 1986. Ферма Энимал: Повесть-сказка
6. Беспалова Лариса Георгиевна, 1989. Скотный двор (самый переиздаваемый перевод)
7. Г. Щербак, 1989. Скотоферма - Неправдоподобная история
8. Владимир Прибыловский, 1989. Ферма Животных: Повесть-притча
9. Таск Сергей Эмильевич, 1989. Скотский уголок (самый интересный, на мой взгляд, перевод)
10. Д. Иванов, В. Недошивин, 1992. Скотный двор: Сказка
11. Мария Карп, 2001. Скотское хозяйство: Сказка
12. Владимир Прибыловский, 2002. Зверская ферма: Сказка
Подробнее познакомиться с рецензиями на сказку-притчу можно по адресу: http://www.orwell.ru/library/novels/Animal_Farm/russian/
Повесть Оруэлла написана в духе сатирических произведений Д. Свифта, М. Салтыкова-Щедрина. Её герои-животные говорят на человеческом языке, мечтают о лучшей жизни. Однажды они захватывают ферму "Райский уголок", прогоняют жестокого и несправедливого хозяина мистера Джонса и основывают справедливое государство, следуя теории "анимализма" и семи законам:
1. Всякое двуногое – враг.
2. Всякое четвероногое или крылатое – друг.
3. Не носи одежду.
4. Не спи в постели.
6. Не убивай себе подобного.
7. Все животные равны.
Короткое изречение: «Четыре ноги хорошо, две ноги плохо» - становится главным лозунгом нового строя. Животными "мудро" руководят свиньи и постепенно отступают от заповедей, тайком переписывая их в свою пользу. Самыми мощными средствами управления на скотном дворе являются ложь и страх.
При внимательном изучении характеров героев можно найти узнаваемые человеческие типы. Здесь есть диктатор и изгнанник, доносчик и демагог, изменник и философ, работяги и охранники. Совпадений с реальными режимами в европейских странах действительно много. Сам писатель рекомендовал при переводе своей книги опираться на подлинный исторический материал той или иной конкретной страны. В этом смысле перевод Сергея Таска - один из самых удачных.
Аллегорическая сказка Оруэлла разоблачает коварство власти, умело манипулирующей массами, прикрывающей свои бесчинства и привилегии фальшивыми речами с трибун. Она учит видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, и не поддаваться соблазнительным лозунгам о свободе, равенстве и братстве, о справедливости и всеобщем благополучии («Все животные равны, но некоторые равнее»).
Незадолго до смерти Оруэлл закончил роман-антиутопию "1984", сатирическую фантазию о будущем, которое в некоторых странах уже начало сбываться. Он убедительно показал, чем расплачивается человек за счастье, устроенное для всех без исключения.
Ложная пропаганда, лозунги-плакаты, тотальная слежка, доносительство, режим экономии, воспитание ненависти, система, регулирующая не только вопросы питания, но и продолжение рода человеческого, - всё это составные части государства, которое следует принципам: «Война - это мир», «Незнание - сила», «Свобода - это рабство». Четыре министерства: правды, мира, любви, изобилия - позволяют управлять страной разумно и упорядоченно.
Если кто-нибудь совершает "мыслепреступление", полиция мыслей обязательно его находит, применяет самые изощрённые пытки, чтобы подавить стремление к размышлению и свободолюбию.
«Будущему или прошлому - времени, когда мысль свободна, люди отличаются друг от друга и живут не в одиночку, времени, где правда есть правда и былое не превращается в небыль, - обращается Уинстон Смит, тайком записывая в дневник свои сокровенные воспоминания и мысли. - От эпохи одинаковых, эпохи одиноких, от эпохи Старшего Брата, от эпохи двоемыслия - привет!»
Эта эпоха имеет и собственный язык, максимально регламентированный и экономично сокращённый: «...сокращение словаря рассматривалось как самоцель, и все слова, без которых можно обойтись, подлежали изъятию. Новояз был призван не расширить, а сузить горизонты мысли, и косвенно этой цели служило то, что выбор слов сводили к минимуму». Ритуал коснулся даже языка, исключив хаотическое движение личности, навсегда ограничив его творческое "Я".
Истории, поведанные мистером Оруэллом, и сегодня звучат актуально. Двойные стандарты, всеобщая слежка, поиски врага, война ради мира - не правда ли, в этом есть что-то очень знакомое?..